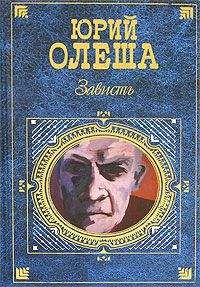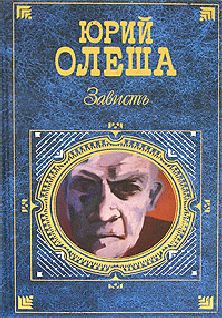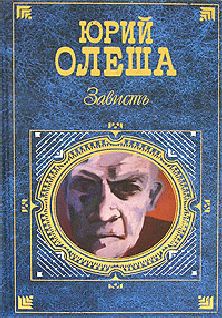Юрий Олеша - Зависть (сборник)
– Здравствуйте, – пролепетал Шувалов.
Великий ученый сидел прямо, настороженно, на иголках. Он прислушивался, его уши вздрагивали, указательный палец левой руки торчал в воздухе, точно призывая к вниманию невидимый хор, готовый каждую секунду грянуть по знаку этого пальца. Все притаилось в природе. Шувалов тихо спрятался за скамью. Один раз взвизгнул под пятой его гравий. Знаменитый физик слушал великое молчание природы. Вдали, над купами зелени, как в затмение, обозначилась звезда, и стало прохладно.
– Вот! – вдруг вскрикнул Ньютон. – Слышите?..
Не оглядываясь, он протянул руку, схватил Шувалова за полу и, поднявшись, вытащил из засады. Они пошли по траве. Просторные башмаки ученого мягко ступали, на траве оставались белые следы. Впереди, часто оглядываясь, бежала ящерица. Они прошли сквозь чащу, украсившую пухом и божьими коровками железо очков ученого. Открылась полянка. Шувалов узнал появившееся вчера деревце.
– Абрикосы? – спросил он.
– Нет, – раздраженно возразил ученый, – это яблоня.
Рама яблони, клеточная рама ее кроны, легкая и хрупкая, как рама монгольфьера, сквозила за необильным покровом листьев. Все было неподвижно и тихо.
– Вот, – сказал ученый, сгибая спину. От согнутости его голос походил на рык. – Вот! – он держал в руке яблоко. – Что это значит?
Было видно, что не часто приходилось ему нагибаться: выровнявшись, он несколько раз откинул спину, ублажая позвоночник, старый бамбук позвоночника. Яблоко покоилось на подставке из трех пальцев.
– Что это значит? – повторил он, оханьем мешая звучанью фразы. – Не скажете ли вы, почему упало яблоко?
Шувалов смотрел на яблоко, как некогда Вильгельм Телль.
– Это закон притяжения, – прошепелявил он.
Тогда, после паузы, великий физик спросил:
– Вы, кажется, сегодня летали, студент? – так спросил магистр. Брови его ушли высоко над очками.
– Вы, кажется, сегодня летали, молодой марксист?
Божья коровка переползла с пальца на яблоко. Ньютон скосил глаза. Божья коровка была для него ослепительно синей. Он поморщился. Она снялась с самой верхней точки яблока и улетела при помощи крыльев, вынутых откуда-то сзади, как вынимают из-под фрака носовой платок.
– Вы сегодня, кажется, летали?
Шувалов молчал.
– Свинья, – сказал Исаак Ньютон.
Шувалов проснулся.
– Свинья, – сказала Леля, стоявшая над ним. – Ты ждешь меня и спишь. Свинья!
Она сняла божью коровку со лба его, улыбнувшись тому, что брюшко у насекомого железное.
– Черт! – выругался он. – Я тебя ненавижу. Прежде я знал, что это божья коровка, – и ничего другого о ней, кроме того, что она божья коровка, я не знал. Ну, скажем, я мог бы еще прийти к заключению, что имя у нее несколько антирелигиозное. Но вот с тех пор, как мы встретились, что-то сделалось с моими глазами. Я вижу синие груши и вижу, что мухомор похож на божью коровку.
Она хотела обнять его.
– Оставь меня! Оставь! – закричал он. – Мне надоело! Мне стыдно.
Крича так, он убегал, как лань. Фыркая, дикими скачками, бежал он, отпрыгивая от собственной тени, кося глазом. Запыхавшись, он остановился. Леля исчезла. Он решил забыть все. Потерянный мир должен быть возвращен.
– До свиданья, – вздохнул он, – мы с тобой не увидимся больше.
Он сел на покатом месте, на гребне, с которого открывался вид на широчайшее пространство, усеянное дачами. Он сидел на вершине призмы, спустив ноги по покатости. Под ним кружил зонт мороженщика, весь выезд мороженщика, чем-то напоминающий негритянскую деревню.
– Я живу в раю, – сказал молодой марксист расквашенным голосом.
– Вы марксист? – прозвучало рядом.
Молодой человек в черной шляпе, знакомый дальтоник, сидел с Шуваловым в ближайшем соседстве.
– Да, я марксист, – сказал Шувалов.
– Вам нельзя жить в раю.
Дальтоник поигрывал прутиком. Шувалов вздыхал.
– Что же мне делать? Земля превратилась в рай.
Дальтоник посвистывал. Дальтоник почесывал прутиком в ухе.
– Вы знаете, – продолжал, хныкая, Шувалов, – вы знаете, до чего я дошел? Я сегодня летал.
В небе косо, как почтовая марка, стоял змей.
– Хотите, я продемонстрирую вам… я полечу туда. (Он протянул руку.)
– Нет, спасибо. Я не хочу быть свидетелем вашего позора.
– Да, это ужасно, – помолчав, молвил Шувалов. – Я знаю, что это ужасно.
– Я вам завидую, – продолжал он.
– Неужели?
– Честное слово. Как хорошо весь мир воспринимать правильно и путаться только в некоторых цветовых деталях, как это происходит с вами. Вам не приходится жить в раю. Мир не исчез для вас. Все в порядке. А я? Вы подумайте, я совершенно здоровый человек, я материалист… и вдруг на моих глазах начинает происходить преступная антинаучная деформация веществ, материи…
– Да, это ужасно, – согласился дальтоник. – И все это от любви.
Шувалов с неожиданной горячностью схватил соседа за руку.
– Слушайте! – воскликнул он. – Я согласен. Дайте мне вашу радужную оболочку и возьмите мою любовь.
Дальтоник полез по покатости вниз.
– Извините, – говорил он. – Мне некогда. До свиданья. Живите себе в раю.
Ему трудно было двигаться по наклону. Он полз раскорякой, теряя сходство с человеком и приобретая сходство с отражением человека в воде. Наконец он добрался до ровной плоскости и весело зашагал. Затем, подкинув прутик, он послал Шувалову поцелуй и крик.
– Кланяйтесь Еве! – крикнул он.
А Леля спала. Через час после встречи с дальтоником Шувалов отыскал ее в недрах парка, в сердцевине. Он не был натуралистом, он не мог определить, что окружает его: орешник, боярышник, бузина или шиповник. Со всех сторон насели на него ветви, кустарники, он шел, как коробейник, нагруженный легким сплетением сгущавшихся к сердцевине ветвей. Он сбрасывал с себя эти корзины, высыпавшие на него листья, лепестки, шипы, ягоды и птиц.
Леля лежала на спине, в розовом платье, с открытой грудью. Она спала. Он слышал, как потрескивают пленки в ее набрякшем от сна носу. Он сел рядом.
Затем он положил голову к ней на грудь, пальцы его чувствовали ситец, голова лежала на потной груди ее, он видел сосок ее, розовый, с нежными, как пенка на молоке, морщинами. Он не слышал шороха, вздоха, треска сучьев.
Дальтоник возник за переплетом куста. Куст не пускал его.
– Послушайте, – сказал дальтоник.
Шувалов поднял голову с услащенной щекой.
– Не ходите за мной, как собака, – сказал Шувалов.
– Слушайте, я согласен. Возьмите мою радужную оболочку и дайте мне вашу любовь…
– Идите покушайте синих груш, – ответил Шувалов.
1929
Я СМОТРЮ В ПРОШЛОЕ
Когда Блерио перелетел через Ла-Манш, я был маленький гимназист.
Было лето, мы на дачу не выезжали, потому что не хватало средств.
Папа играл в карты, возвращался на рассвете, днем спал. Он был акцизным чиновником. Служба его состояла в том, чтобы ходить в казенные винные лавки и проверять, не нарушаются ли правила торговли. Исполнял он свои служебные обязанности плохо; как он держался на службе, не знаю; жалованье, словом, получал. Главное было – клуб, игра, он чаще проигрывал; известно было: папе не везет. В клубе он проводил почти круглые сутки.
Так вот, значит, Блерио перелетел через Ла-Манш. Было лето, был подан летний обед, помню – жарко было, потно, резали дыню.
О дынях было известно, что дядя Толя ест их с солью. Ни одна дыня не удостаивалась одобрения. Только нам, детям, нравились все дыни. Мама говорила: «прямо огурец»; папа: «надо брать у Ламзаки»; тетя: «осторожно, а то холера».
Семья у нас была мелкобуржуазная.
На подзеркальнике покоилась громадная рогатая раковина. Ее нужно было прикладывать к уху и слушать.
– Это шумит море, – говорили взрослые.
Раковина, в которой шумело море, была обстоятельством такого же рода, как дыня, которую дядя Толя съедал с солью. Во всех знакомых домах были раковины; бог весть какие моря их выбрасывали.
Папа хотел, чтобы я стал инженером. Он понимал инженерствование как службу в каком-то управлении, – воображалась фуражка, и говорилось: как господин Ковалевский.
В доме не было ни одной вещи своеобразного значения. Не было ничего такого, на основании чего можно было бы определить, что хозяин, скажем, идиот, или фантазер, или скряга. Ничего нельзя было определить.
Хозяин был картежник. Папа считался несчастным человеком. «Все сделали карты».
Клубное существование папы оставалось для нас неизвестным. Может быть, он покрывался испариной, когда проигрывал; может быть, рассказывал анекдоты, чтобы привести в хорошее расположение тех, у кого предполагал занять три рубля; может быть, разговаривая с ним, иные многозначительно переглядывались.
Домашнее существование его складывалось так: он, проснувшись, получал в постель чай и хлеб с маслом, потом опять засыпал, спал, положив на грудь кулаки; он выходил к обеду одетый, в манжетах с золотыми запонками, он был добр, мягок; волосы у него на висках были мокрые после причесывания.