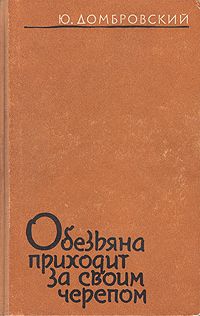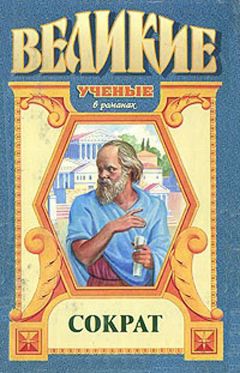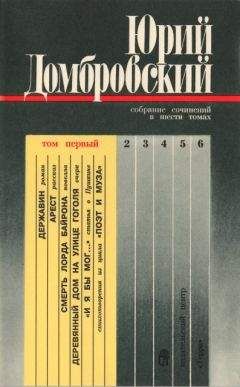Юрий Домбровский - Рождение мыши
— Да что за глупости, я сама сыграю!
— Правильно — сыграете! Грипп не такое уж дело, чтобы срывать спектакль, но и она сыграет, раз ее уже вызывали — или, — он остро посмотрел на Нину, — или не сыграет? Засыпет роль? О! Тогда другое дело! Ну, так как? Сыграет или нет? — Нина молчала. — Нет! — он взялся за трубку.
— Да нет, сыграет, конечно, — смутилась Нина.
— Ну, вот и все! — директор откинулся на спинку кресла. — А вы поезжайте домой.
Вошла Ленка с манто в руках. Сказала: «Здравствуйте, кого не видела», — подошла и набросила манто Нине на плечи.
— Одевайся! — приказала она строго. — Ну, быстро, быстро! Машина же! Так, Сергей, на ключ! Я отвезу ее домой, уложу и дождусь Григория. Я сейчас ему звонила, — его дома нет, у них там что-то в университете. Нинка, я же жду! Отойди к зеркалу и попудрись! На тебе лица нет, дома испугаются!
— Эх, Сережа! — сказала Нина с тяжелым укором. — Так подвести.
— Сергей молодец! Так с тобой и надо! — отрезала Ленка и прикурила у директора через стол. — Все? Ну, красавица, красавица — одна лучше всех нас, прячь пудреницу, поехали. До свидания, товарищи!
Она взяла Нину за руку и повела из кабинета.
Директор с улыбкой посмотрел на доктора:
— Видите, как она ее повела — за ручку, и та пошла! Вот тебе и Нина Николаевна!
— Вообще, кажется, только эта чета и умеет с ней обращаться, — улыбнулся доктор, — это у них семейное, в крови. Вы знаете, когда Сергей Николаевич привел меня к ней в уборную, так она куда! И слушать ничего не хотела, даже голос повысила. Так он взял у меня градусник и протянул ей: «Вот что, уважаемая, — ультимативно: либо вы сейчас же поставите термометр и мы спокойно посмотрим и решим, что с вами делать дальше, или я вас заворачиваю в манто и тащу к себе в машину — выбирайте», — и она сразу же замолкла.
— Потому что знает: заяц шутить не любит, — я взял бы и унес, — хмуро сказал Сергей.
— Что ж, права дружбы велики, — вздохнул директор и снова набрал номер, — Мария Васильевна, так что с Богдановой? Ну и отлично! Она где? Ага, — он встал и запер ящик стола. — Иду смотреть дебюторшу. Сергей, ты со мной?
— Нет, — ответил Сергей и протянул ему руку. — До свидания. У меня там Николай. Я не хочу его долго оставлять одного.
* * *Николай медленно ходит по комнате. Неприятно, когда взорвешься и наговоришь черт знает что, а впрочем, шут с ним, пусть не ходит, не выпрашивает комплименты. Вот нашла себе Нинка орла, — и, наверно, все эллинисты такие!
Входит Сергей, бесшумно затворяет дверь, стоит и смотрит в спину. Ну что ж ты, чудак, думаешь, что я тебя не замечаю?
— Ну так как, Сережа?
Сергей сконфуженно подходит.
— Ты, Николай, на Григория не сердись. Он, конечно, дурак, но парень золотой души, а ты, понимаешь…
— А наплевать, Сережа, мне на нем не жениться, ты садись!
Сергей садится.
— Он ведь тоже много пережил, — говорит он виновато. — Был чуть ли не в Освенциме. Я читал его письмо Нине. Действительно страшно.
— Ах, вот что! — усмехнулся Николай. — Освенцим вспомнил! Ну хитер!
— Старая история, Коля, — пожался Сергей. — «Она его за муки полюбила, а он ее за состраданье к ним» — это Шекспир, дружище.
— Да не Шекспир это, а старый дурак Вейнберг, — разозлился Николай, — и я тогда еще ей говорил: не связывайся с ним. У Шекспира вот как:
За бранный труд она в меня влюбилась.
Я за сочувствье полюбил ее.
Шекспир знал, за что можно полюбить солдата — за бранный труд! А у этого сукиного сына что? Какие у него бранные труды? Такие тряпки с покойников там разбирали.
Он помолчал, пофыркал, походил по комнате.
— Я вот ей сейчас тоже напишу: «Милая Нинуля, я пережил то-то и то-то, за десять лет я так исстрадался, что прошу: плюнь на своего обормота и обрати свое нежное женское внимание на меня», — хорошо бы было?
— Ну, перестань, — поморщился Сергей.
— А что, даже представить не можешь меня с таким письмом? Правильно. А я ведь имел бы право сказать: «Приди и вложи маникюр в мои раны, и посмотрим, у кого они глубже».
Сергей молчал.
— Раны у меня, Сережа, куда страшнее и кровавее, чем у этого… эллинист он, что ли? — продолжал Николай, резко останавливаясь перед Сергеем. — Меня бы из Освенцима живым не выпустили, а он вот ушел. Меня допрашивают и от ненависти трясутся… Вот я какой! Нет такого карцера там у них, — он кивнул на Запад, — которого я не отшлифовал собой, такой смирительной куртки, в которую меня не затягивали. И кто не такой, я того и знать не хочу! И Нинка была такая же — не знаю, как он уж ее обошел. Ладно, пес с ними обоими. Сережа, милый, я ведь сегодня уезжаю. Так все неожиданно вышло.
— Как? Куда? — переполошился Сергей.
— Сейчас только в Ленинград, а оттуда недели через две уж не знаю куда.
— Посылают?
— Угу.
— А вернешься когда?
— Да уж постараюсь не вернуться. Если Лену не увижу, ты…
Без стука вошла Ленка.
— Коля! — сказала она решительно. — Я только что от Нины. Она хотела бы с тобой поговорить. Что ей сказать?
Николай открыл рот, закрыл его, вздохнул, сел, опять встал.
— Она… — начал он что-то.
— Ну, все-таки не выдержала, — тихо выдохнул Сергей. — Теперь все!
Ленка только стрельнула на него глазами.
— Так что же ей сказать? Она ждет у телефона, — настойчиво повторила она, не замечая лица Николая.
— Ты ни в чем не смеешь отказать Нине, — серьезно сказал Сергей. — И если она захотела…
Опять все трое смотрели друг на друга и что-то соображали.
— Нет! — вдруг решительно отрезал Николай. — Не надо! Не хочу! К черту! Пусть сидит с эллинистом!
— Смотри, Николай! — строго предупредила Ленка и взяла его за рукав. — Это уж будет навсегда.
— Пусти!! — коротко рявкнул Николай, выдернул руку и вышел в коридор.
* * *И там возле двери ванной стояла Нина. Она стояла в полумраке, смотрела на стеклянную клетку двери и грызла платочек. Она была так неподвижна, что он чуть не сшиб ее с ног и сначала даже не увидел, кто это, но сразу же понял: «Она! Она, она!»
Так с десяток секунд они стояли и смотрели друг на друга.
На пороге показался Сергей, и сразу же Ленкина рука рванула его назад.
У Нины губы все дергались, дергались, и, наконец, кое-как она сумела выговорить как-то:
— Николай!
Он отошел и спросил ее (конечно, только затем, чтоб спросить):
— Узнала? Переменился?
Она, не сводя глаз, покачала головой.
— Нет!
— И ты все та же, — сказал он угрюмо.
Она, как заводная кукла, подняла руку и отбросила волосы со лба — показалась широкая белая лента.
— Что это? — спросил он.
— Осень сорок второго, — ответила она.
— А-а! — кивнул он. Это была та осень, когда он перестал ей писать.
— Все-таки — увиделись, — произнесла она как бы про себя. — Не обмануло сердце.
— У тебя сын? — спросил он жестко из другого уже угла.
— Да. Смотрит твои книжки. Так же любит зверей, — жалко улыбнулась она.
— Вот как? — недобро усмехнулся он. — Совсем как будто он… — и не окончил, потому что увидел — она вот-вот закричит.
— Ну, что ж, — солидно вздохнул он, — это хорошо. Значит, развитой мальчик.
Дверь приотворилась, и просунулась голова Сергея.
— Николай, мы уходим. Нина, здравствуйте еще раз. Я позвоню… вам… мы…
Дверь хлопнула и сразу же открылась: заглянула Ленка.
— Ниночка, дома никого нет, будь хозяйкой. Береги Николая.
— Ну что ж, — сказал Николай Нине, — идем в комнаты.
* * *Она сидела с ногами на кушетке и курила. Он тихо и мягко ходил по ковру.
— Вот ты сказал, — произнесла она, смотря на него, — о Петушке, что он похож… — Она не договорила. — Ты понимаешь, почему так все вышло? Понимаешь?
— A-a! — поморщился он. — Какая ты все-таки девочка! Ну, конечно, я понимаю, почему все так вышло! Ну и что из этого?
Она молчала.
— Твоему сыну сколько? Пять лет? Точно пять? — спросил он вдруг.
— Зачем тебе это, Коля?!
— Когда ты вышла замуж? — проговорил он, настаивая.
— В августе сорок восьмого.
— Август сорок восьмого, август сорок восьмого… — проговорил он, с трудом вспоминая что-то. — Ага! В конце, в начале?
— В конце!
— Так! — он сел с ней рядом — и взял ее руку. — Двадцать шестого августа у меня закружилась голова, я упал и расшиб себе подбородок. Меня перевели в больницу, и вот я почувствовал, что сдыхаю. Ты уж мне не снилась — одни жуки, пауки, крюки и всякая пакость. Лежу и чувствую: конец, сдохну!
— Ну и что? — спросила она с ужасом.
Он пожал плечами.