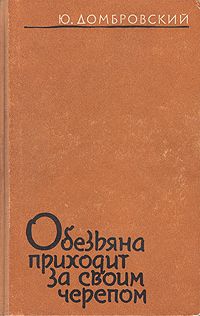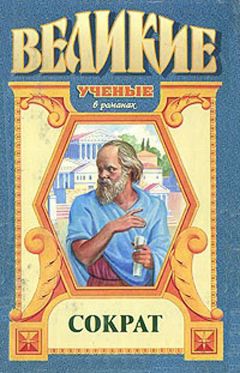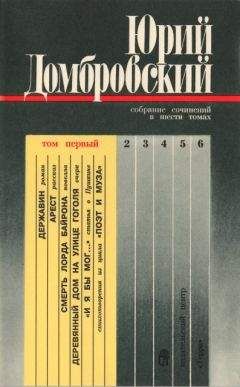Юрий Домбровский - Рождение мыши
— Стой, стой, Коля, — схватил его за руку Сергей. — Что ты за чепуху понес! Ты соображаешь, что ты такое городишь?!
— Нет, правильно, — крикнула за дверью Ленка. — Все правильно! И я подтверждаю — пусть только Петька немного подрастет. Она на животе поползет за тобой, Николай. Поползет, гадюка, только свистни.
* * *— Мамочка, у тебя опять болит голова?
— А что, милый?
— А у тебя глазки красные!
— Да, родной, немножечко болит. А почему у зайчика все пальчики цветные? Боже мой, зеленая, красная, синяя! Кого же ты рисовал?
— Да не рисовал, как ты не понимаешь, красками не рисуют — это карандашами рисуют. Я рас-кра-ши-вал!
— А-а! Ну, теперь понимаю — кого же ты раскрашивал!
— Мамyсенька, можно залезть к тебе на коленки?
— Лезь, милый! От так — опля! Нет, на шею сегодня не надо — вот придет папа, он тебя покатает. Так кого же ты раскрашивал?
— Ну какая же ты, мама, сама купила мне такую книжку и спрашиваешь! Павлина же!
— Ах, пав-ли-на! Ну-ну-ну.
— Мам, мамусенька, а почему у тебя слезки? Ты плачешь?
— Да нет, зайчик, что ты выдумал!
— Ты на папу рассердилась?
— Ну разве на больших сердятся, что ты, заинька!
Он поднимается у нее на коленях:
— Мамочка, а почему от тебя сегодня конфетками не пахнет и губы не красные? Ты никуда не пойдешь, будешь дома? Да, мамочка?
— Да, милый!
— Мамочка, а ты не уйдешь от нас с папой? Никогда-никогда?
— Что-о?
Она спускает Петушка на пол и чувствует, как у нее вспыхивают щеки.
— Стой, стой, что ты такое говоришь, Петушок? Как оставить? Ну-ка говори!
Петушок смотрит в пол.
— Кто тебя учит таким гадостям? Как это так — уйду? Ну, уйду, а потом опять приду. Я каждый вечер ухожу в театр, а когда прихожу, ты спишь!
Он все смотрит в пол.
— Нет, ты уйдешь и не придешь — ты нас с папой бросишь и больше не будешь любить: у тебя будет новый мальчик.
У Нины холодеет все: руки, ноги, пальцы, лицо, она старается говорить спокойно, а голос так и срывается:
— Бог с тобой, Петушок, какие ты говоришь глупости! Как же у меня будет мальчик без папы? Ну, смотри ж на меня, когда я с тобой разговариваю.
Она поднимает за подбородок его головку, но голова уже упрямая, неподатливая, и он опускает ее опять.
— Ну я же не знаю, мама! Какая ты странная, я же маленький, — говорит он скучно и неискренне.
Нина поворачивается и кричит:
— Даша!
Входит Даша с ложкой в руке.
— Даша, что же это такое? Вы послушайте, что он говорит: я куда-то уйду от папы, у меня будет мальчик, что это такое? Откуда это?
Даша сердито смотрит на Петушка.
— Не знаю, что это ему еще причудилось, — говорит она строго. — Петушок, ты что это выдумал?
Петушок пунцово краснеет, надувается и молчит, упрямо подогнув одну ногу.
— Это он во дворе что-то услышал, — решает Даша, — небось кино какое-нибудь ребята пересказали — вот он и бухнул.
— Так надо же смотреть, Даша, — упрекает Нина, — ребята там всякие. А ты смотри, заяц, еще раз услышу, что ты водишься с уличными, и не буду тебя никогда любить.
Петушок насупливается еще больше и молчит.
Даша подходит и берет Петушка за руку.
— Ну, что такое наговорил? Откуда что взял? Отвечай!
Петушок пыхтит, надувается и наклоняет голову, пряча кумачовое лицо.
Даша наклоняется и берет его за руку.
— Ну-у? Оглох?
Тут Петушок вырывается, падает, лупит кулаками и ногами по ковру и кричит:
— Уйдите вы от меня! А-а-а!.. Сами во всем виноваты, дряни! Злюки! Никуда я не пойду от папочки! А-а-а!.. Вот вам! Иди одна!
И заливается, и заливается.
* * *Петушок спит и всхлипывает, а ей нигде нет места. Одевается и выходит на улицу. Бродит по своим любимым переулкам. Слушает начало лекции о скабиозе под каким-то громкоговорителем. Пьет пиво в киоске, заходит в кино. Выходит в темноте во время сеанса, и на нее шикают. Боль все тупее, все нестерпимее, и она из будочки звонит Григорию.
— Пожалуйста, не приводи к себе никого — надо поговорить.
— Конечно-конечно, дорогая, — отвечает он, и голос у него такой, что она поспешно бросает трубку.
Потом идет к окнам Сергея. Везде уже темно, только у Ленки свет. Ленка уступила свою комнату Николаю. Значит, Николай не спит тоже. Он заложил руки в карманы и ходит из угла в угол, наверное, думает о ней. Думает: лежит она с мужем, и им горюшка мало! А она, вот, стоит на мостовой и смотрит на его окно.
* * *Голос Нины заставил Григория сжаться ежом, он ясно понимал, что кончилась целая пора их отношений, — отныне многое уже не повторится и еще большее никогда не уйдет от них.
Никогда не повторятся разговоры ночи напролет, то, что вот он сидит над какой-нибудь чертовщиной, а она подойдет, разбросает его бумаги, взъерошит ладонью ему волосы, уберет чернильницу и крикнет: «Кончать! Кончать! Петушок, а ну-ка лезь к папе на колени, бери у него ручку! Ну, папочка, нам же скучно, папочка, расскажи нам о каком-нибудь Вавилоне». Или, положим, вот сидит он в институте со своим делом, работает, разложили они по столу окурки, изразцы, наконечники стрел — зеленые и черные, и вдруг телефон и звонкий, всегда извиняющийся голос Нины: «Будьте любезны, позовите Григория Ивановича! Ах, это ты, Гриша? Ну, быть тебе богатым! Гришенька, ты знаешь, сколько сейчас времени? Полвосьмого — три часа, как кончились занятия, у меня сидит твоя Шура, и мы пьем пиво. Если ты через час не придешь с дедом и вы не захватите с собой по четверти хо-олодного пива, ты в нас не нуждаешься и — пожалуйста-пожалуйста! Нет, Гришенька, в самом деле, у вас ведь там посуды, посуды! Так мы надеемся? Да, Гриша? И с дедом? О-о, Шурочка, выходите замуж только за археолога. Вот это мужчины!»
И никогда не уйдет вот это.
Она сидит, он подошел и погладил по волосам: «Гриша, голубчик, не лезь, мне очень нехорошо сейчас».
Они заговорили о чем-то и разошлись в мнениях: «Ладно, Гриша, не будем об этом говорить. Здесь мы не столкуемся».
Он сказал, что она не понимает его настроения: «Да, не понимаю, Гриша, и не буду понимать, и давай лучше о чем-нибудь другом».
Так пройдет год, и он опять останется один. Вот и все.
Он вздыхает и встает из-за стола.
Во всех кабинетах темно, все ушли, только в лаборатории горит ослепительная белая лампа. Он заходит туда. Дед колдует над пробирками и колбами, лицо у него багровое (жарко!), пальцы бурые.
— Трофим Константинович, — тихонько зовет Григорий.
Дед поворачивает к нему потное, оживленное лицо.
— Асинька? А, я…
— Трофим Константинович, вы любите Овидия?
Дед думает о чем-то своем, другом, и глядит на него.
— Овидия-то? — повторяет он, еще ничего не соображая и думая о своем. — Ну что ж! Ничего. В гимназии учили «Метаморфозы». Я постоянно имел пять. А… почему вы спросили?
— В этих «Метаморфозах», в мифе о Девкалионе, есть замечательные строки…
— Как же, как же, помню, вот: «Капля камень долбит, но не силой, а частым падением», — счастливо улыбается дед. — А ведь помню, пятьдесят лет прошло, а помню. Вот как вызвездили!
Григорий вздыхает:
— Да, но только это Вергилий, а Овидий-то вот: «О сестра, о жена, о единая женщина в мире!»
— А-а! — спокойно удивляется дед и опять думает о своем. — А-а! Да-да! Это он хорошо оказал. А я, Григорий Иванович, знаете, что надумал? — Дед проникновенно смотрит на Григория. — А не имеем ли мы тут дело с каким-нибудь препаратом окиси железа, а? И пожалуй, что так. Я вот…
— О, сестра, о жена, о единая женщина в мире! — повторяет задумчиво Григорий и уходит от деда.
* * *Разговор дома был такой. Она сдержанно спросила:
— Гриша, кто тебя просил встречаться с Николаем?
Он был подготовлен и твердо ответил:
— Ниночка, я был не у него, a у Сергея.
— А говорил с Николаем! Ты ведь меня не спросил, Гриша, правда? — она очень волнуется и потому говорит все мягче и мягче. — А я взрослый человек и сама знаю, что мне нужно, что нет. Вот твое посещение — его мне было не нужно.
— Ну, извини.
Голос у Нины еще больше смягчается, но остается по-прежнему очень решительным.
— Я понимаю, почему ты пошел, но очень прошу тебя: дай решать мне дела самой, как-нибудь справлюсь.
Он молчит.
— И во всяком случае надо было все начать с меня. Почему ты мне ничего не сказал?
— Я боялся сделать тебе больно.
Она вспыхивает:
— А ему ты не боялся сделать больно, правда?! К нему ты пришел победителем — что он при этом почувствует, тебе было наплевать! Ох, это как раз то, что больше всего ненавижу в человеке — наплевать на чужое страданье, ведь мне грозит неприятность.