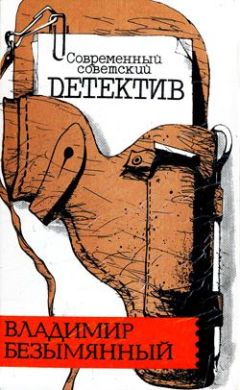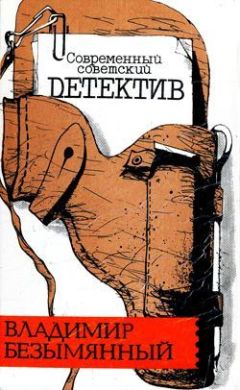Анатолий Ананьев - Версты любви
«Примчался?»
«Да».
«Я это знал, — добавил Василий Александрович, закрывая за мной дверь. — Бросай рюкзак на лавку, раздевайся и проходи».
Он был в доме один, я понял это сразу, оглядев показавшуюся мне пустой и неуютной комнату.
«В больнице еще, — сказал Василий Александрович, перехватив мой взгляд. — Операция вроде прошла удачно, дело идет на поправку».
«А Мария Семеновна где?»
«Там же, в больнице».
«С ней что?»
«Но ты же еще не знаешь, что с Ксеней», — недовольно перебил он.
«Да, конечно, что с ней?»
«То-то, «что с ней»... Чаю хочешь? Еще горячий, могу угостить, — предложил он и тут же, не дожидаясь ответа, направился к висевшему на стене потемневшему деревянному посудному шкафчику и, открыв дверку, принялся одною своею рукою доставать граненые стаканы и блюдца и устанавливать на столе. — Что с ней? Почку удалили, — уже на ходу продолжил он. — Да и оставшаяся, говорят, не очень. А Мария Семеновна, что ж, как нянечка при ней, и все. А-а, — протянул он вдруг, перебивая себя и с нескрываемой досадой махнув рукой, — все на лечение, ты не знаешь и не можешь представить себе, Евгений, сколько потрачено на ее лечение! А сколько она совершила глупостей! А-а, говоря между нами, откровенно, я уже измучился, устал, и все мне надоело, осточертело, вот, на загривке все», — докончил он, ребром ладони пропилив по своей согнутой шее.
Никогда прежде и никогда потом я уже не видел Василия Александровича таким расстроенным, удрученным, недовольным собой и жизнью, каким он был в этот вечер, когда мы вдвоем сидели за столом в той самой избе, которая была нам обоим памятна еще с фронтовой зимы, когда на рассвете мы вступили в освобожденные Калинковичи, и которая была давно уже теперь его родной избой, семейным, но не сложившимся, как он с горечью выразился, очагом, где жизнь стала для него не радостью, какою она должна быть для всех и какою, как ему казалось, живут, по крайней мере, многие и многие, а одною бесконечною и трудною, как для рабочей лошади дорогою. Он говорил неторопливо, долго, весь вечер: и пока пили чай, и после, когда просто сидели за столом друг против друга, и удивительно — как я теперь понимаю, несчастья всегда сближают людей! — держались мы так, будто ни разу не ссорились, а, напротив, всегда оставались друзьями, даже более: словно и не первым был этот доверительный, душевный разговор, а давно уже мы делились жизненными впечатлениями, и будто я не только слушал и понимал, что он говорит, но и вполне разделял его мнение и сочувствовал ему. Да и на самом деле, ошеломленный этим его неожиданным откровением, я, казалось, действительно понимал и действительно сочувствовал ему; он выглядел настолько постаревшим (в те свои приезды я ведь смотрел только на Ксеню, и волновало меня лишь то, что происходило с ней!), что минутами не верилось, что передо мною сидит теперь тот самый бывший мой комбат капитан Филев, обычно подтянутый, стройный, строгий к себе и окружающим, как он запомнился мне с тех лет и представлялся в воображении, а какой-то другой, пожилой, опустившийся и сгорбленный под тяжестью жизни человек, у которого никогда будто не было ни боевой молодости, ни просвета, как не было сейчас левой руки, и он будто никогда не выходил за порог этой деревянной, с низким потолком и большой русской печью избы. Виски его были седыми, по всему лбу, разрезая его на линии, лежали глубокие морщины; днем они, наверное, не были так заметны, как теперь, вечером, при верхнем свете, потому что в них собирались тени; морщины постоянно двигались вместе с бровями, которые Василий Александрович то вскидывал в недоумении, то сдвигал, хмурил, когда хотелось ему, очевидно, выразить особенное недовольство тем, о чем говорил, и видеть эти двигавшиеся морщины на когда-то молодом, красивом, полном жизни лице было грустно. Я думал: «Что я знаю о нем? И что знал, когда служили вместе?» Ведь это нам лишь кажется, что мы знаем своих друзей, а в сущности, если разобраться, я только и помнил, что родом он откуда-то из-под Смоленска, что крестьянский сын, и что деревня его сожжена немцами дотла, и все родные погибли, но то, как он жил до того, как мы познакомились на фронте, когда я пришел к нему на батарею, и то, как жил потом, эти годы, когда женился на Ксене, я по-настоящему не знал; а предположения, что ж, разве могут быть верными они, если я судил обо всем лишь по впечатлениям от своих коротких и редких наездов? Я смотрел на его руку, которую он держал на столе, на широкую крестьянскую ладонь и пальцы с прокуренно-желтыми ногтями, жесткие, грубые и с уже непромывающейся чернотою (это оттого, наверное, что он постоянно имел дело с дратвой, иглой и шилом), и поглядывал на низенькую табуретку, которая находилась все на том же, под лавкою, месте, где стояла и в прошлый и в позапрошлый раз, когда я приезжал к Василию Александровичу, и, хотя я никогда не видел его за работой, вся картина, как он, ловчась, изворачиваясь, орудовал иглою и шилом, вставала перед глазами.
«И что это дает?»
«Копейки, конечно. Но ведь и копейка к копейке — рубль!»
«А чем-нибудь другим заняться?»
«Чем? С одною-то рукой? А главное, время. Может, чему-нибудь и выучился бы, да кто бы семью кормить стал?»
Разговора такого не было; это потом, вспоминая, я думал, что именно так бы Василий Александрович ответил на мои вопросы, а в тот вечер я был, как уже говорил, настолько ошеломлен, особенно вначале, этой открывшейся мне жизнью, что больше слушал, чем спрашивал, и, может быть, от жалости к Василию Александровичу, а скорее от того давнего чувства уважения к нему как к комбату (старшему по званию, по опыту жизни и по годам человеку), которое все еще было живо во мне, я не мог говорить ему ничего поучительного, лишь выбрав момент, спросил:
«Но болезнь-то у нее откуда? Как случилось все?»
«О, это история длинная».
«Может быть?..»
«Ты думаешь, от того падения? Нет, не только».
«Но...»
«Не забегай, не надо, лучше послушай, ведь ты все равно ничего не знаешь о ней. Ну что ты знаешь? И я ничего не знал. Все мы открываемся постепенно и открываем людей постепенно. Пришел однажды к нам незнакомый старик, на втором или на третьем году, как мы поженились, снял шапку, поклонился и говорит: «Здесь живет Ксеня Захарова?» — «Ну, здесь», — отвечаю, и все мы вот тут, в комнате, собрались, смотрим на него и думаем: чего ему надо? А он тоже оглядел нас, затем сбросил с плеч мешок, достал из него завернутое в тряпицу сало, а тогда, знаешь, еще карточки были, положил на стол и, повернувшись к Ксене, низко, почти до полу поклонился и сказал: «От внучки моей, от Нади, тебе поклон и спасибо. Она умерла, а перед смертью просила обязательно найти тебя и поблагодарить. Так о тебе до последней минуты и вспоминала. Я обещал, и давно бы надо прийти, да все недосуг, все собирался, ан, может, гостинец какой получше, да ведь и нам отведены богом дни. Спасибо тебе, дочка, за Надюшу и от меня». И он еще раз низко поклонился Ксене. Мария Семеновна-то знала все и потому не удивилась, а я сейчас же с вопросами к старику, к Ксене: какая Надя? что было? А было, оказывается, вот что: согнали немцы с окрестных деревень девушек на вокзал, прихватили и из Калинковичей, в том числе попала и Ксеня, и всех их в эшелон и в Германию, как тогда они делали. Ночью на каком-то перегоне девушки в том вагоне, в котором была Ксеня, выломали пол и поныряли на шпалы, а зима, холод. Ксеня-то выпрыгнула удачно, а эта самая Надя (там же подружились, в вагоне) попереломала себе руки да и позвоночник повредила, вот Ксеня двое суток и волокла ее через лес до деревни. Пообморозилась, простыла, а все же приволокла, спасла от смерти тогда, ну та и благодарна. Вот что было. В двух словах, а за словами-то — жизнь! Потом и ей самой люди помогли добраться до Калинковичей, и почти год жила она в погребе, пряталась от немцев, с тех пор и застужены почки. Но ведь этого могло и не быть, вот главное. — При этих словах Василий Александрович как-то особенно, будто грозил кому-то, поднял указательный палец. — На другой день, когда старик ушел, Мария Семеновна и говорит: «По дурости она попала, Фроську побегла предупреждать, подружку, да и влипла сама. Там ее вместе с Фроськой и взяли. А сидела бы в сарае, куда я ее спрятала, и отсиделась бы, так нет, к Фросе...» — «Мама!» — крикнула Ксеня. «Ну чего «мама», или не так? Есть, Женя, в ней эта черта, — продолжал Василий Александрович, в то время как я, молча глядя на него и слушая, невольно представлял, как все происходило, как Ксеня, краснея и умоляюще глядя на мать, просила замолчать ее (так уже было раз при мне, я хорошо помнил ту сцену). — Есть в ней этакая, я бы сказал, вселенская доброта. Женщина она хорошая, ничего дурного не скажешь, но эта ее черта... А прыгнула она тогда с крыши? Зачем? Прыжок не прошел даром. Да что прыжок, его еще можно объяснить, а вот кровь отдавала — она же, помнишь, в больнице сестрой работала, — это к чему? Сама-то уже больная, а туда же, берите, спасайте, как будто никого там, в больнице, кроме нее, и нет. Ночью, во время дежурств, разумеется. Да и узнавал-то я потом, после. А на картошку осенью... Вот уж чего ей совершенно нельзя было делать, так опять же подругу пожалела: к какой-то там Дусе ли, Мусе ли муж или брат из армии приехал, а ее в колхоз картофель копать, так не кто-нибудь, а Ксеня вызвалась подменить ее и уехала на две недели, а вернулась оттуда желтая, кожа да кости. А ну-ка две недели по сырой земле да согнувшись, и это при ее-то здоровье! С той осени, собственно, все и началось: посылали ее и в Трускавец, и в стационар клали, и, в конце концов, забрал я ее с работы, и все. Может, и хуже сделал, да какая она работница, дома и чугунок поднять не может. А все из-за чего, Женя? Из-за этой своей, ну, как я говорил, вселенской, что ли, доброты. Она нужна, я понимаю, но ведь и всему мера должна быть. Поклон какого-нибудь старика — это еще не жизнь. К людям с добром, а к себе, к семье, к мужу? Где тут грань? Чужих жалко, а себя, ближних? Вот и окинь теперь, как и что было. А всякая щедрость за счет других — не такое уж и великое дело. А-а, — опять протянул он и, как и в самом начале разговора, досадливо махнул рукой, — что я говорю! Пережить это надо, потянуть лямку, и без слов станет ясно что к чему, так что ты не очень-то жалей, ты знаешь, о чем я, а то тебе пришлось бы сейчас вот так рассказывать, а я бы молчал и слушал».