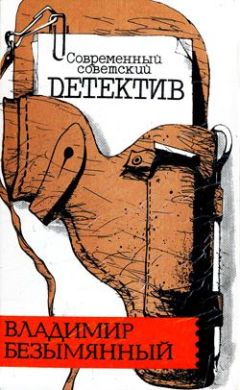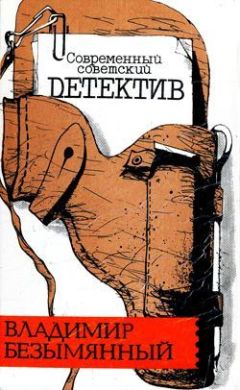Анатолий Ананьев - Версты любви
«Пока не решил. Надо закончить, а после видно будет».
«Поселок-то большой? Есть перспективы?»
«Какие могут быть, Василий Александрович, там у нас перспективы? Лесозавод, а в общем, лесоперевалка, вот и все».
«А люди как живут?»
«В каком смысле?»
«Ну, уровень, что ли».
«Уровень в целом, насколько я могу судить, что ж, уровень — я же бываю в домах своих учеников, — как везде сейчас, неплохой, подымается. Но тоже, хоть и фронт будто не проходил, и разрушений нет, а война и там наследила, домишки поосевшие, да и народ все еще как-то по-настоящему встряхнуться не может, рук не хватает: на плотах — бабы, у пилорам — бабы», — начал я, хотя казалось, что все, что можно было рассказать, было уже рассказано и о Чите и о Москитовке и ничего уже не оставалось в памяти. Но Василий Александрович спрашивал, а я отвечал, и оба мы долго еще вели как будто интересующий нас разговор, хотя ни ему, ни мне не доставлял он ни интереса, ни удовлетворения. Не знаю, какие думы охватывали его, но я постоянно и с еще большим теперь, кажется, волнением посматривал на Ксеню, уже не только обращая внимание на болезненную бледность ее щек, а мысленно представляя, как должна была жить она, что уже сейчас, когда ей нет еще и тридцати, уже и эта бледность и утомленность; я воображал, конечно, по-своему, как жила она, но мне опять казалось, что я понимал ее, и хотелось (в какие-то доли секунды я был совершенно готов к этому и не помню, как только сдерживался), прямо взглянув в глаза Василию Александровичу, спросить: «Что ты сделал с Ксеней?» Но, однако, мы продолжали вежливый и как будто радовавший всех нас разговор, пока наконец Василий Александрович, посмотрев на часы, не встал из-за стола и не сказал, устало потянувшись:
«Ты где остановился?»
«Как где?»
«Где, говорю, остановился, в гостинице?»
«Да», — ответил я, хотя даже не знал, есть ли в городе гостиница и где расположена она.
«А то остался бы у нас, нашли бы место, где переночевать».
«Нет, спасибо».
«А из Калинковичей когда? Завтра?»
«Думаю, завтра».
«Куда?»
«В Речицу».
«А-а, это ты хочешь на вокзал, где нам снайпера прицелы поразбивали, ну-ну».
«Потом в Ветку».
«А-а, на тот самый песчаный откос, на лобное место, ну-ну, помню».
Он помнил, конечно, и уличные бои, которые мы вели в Речице, и вокзал, где немецкие снайперы так прижали нас к земле, что до самой ночи мы не только не могли поднять головы, но боялись пошевелиться, и помнил так же хорошо песчаный откос на берегу Сожа, под Веткой, где была развернута батарея на прямую наводку, чтобы поддержать переправу, и куда после неудачного форсирования, когда немцы танковым контрударом сбросили нашу пехоту в воду, прибивало волнами посиневшие трупы солдат, но, помня все, вместе с тем не хотел сейчас, и это было заметно, вдаваться в подробности; в том, как он произносил «ну-ну», будто снисходительно похлопывая в знак одобрения по плечу, в мгновенном взгляде, какой бросил на рюкзак, как только я тоже, поднявшись, вышел из-за стола, нельзя было не почувствовать, что он желает лишь одного — поскорее распроститься со мной. Даже самого элементарного: «Посидел бы еще, куда торопишься, столько лет не виделись», — что говорят в таких случаях иногда и не очень гостеприимные хозяева своим не очень-то желанным гостям, Василий Александрович не сказал, и оттого, может быть, никогда прежде не испытывавший к нему неприязни и не позволявший себе в тот, прошлый приезд думать о нем плохо, теперь, видя и чувствуя это его желание поскорее проводить меня, я с раздражением говорил себе: «Вот ты какой, вот когда раскрылось твое нутро! С годами раскрывается, правильно говорят, с годами, и ты не имел права жениться на Ксене. Ты сделал ее несчастной, взгляни, ты сделал ее такой!» Я горячился, хотя все это было напрасно, и позднее, когда с Василием Александровичем мы снова стали друзьями и многое объяснилось, и на эту встречу, и на его поведение я смотрел уже иначе, но в тот вечер все во мне бурлило, и я лишь сдерживал себя, чтобы не наговорить грубостей (не наговорить, главное, при Ксене) бывшему своему комбату. Стараясь не смотреть на него, чтобы случайно не встретиться с ним взглядом, я начал прощаться с женщинами.
«Спасибо, Мария Семеновна, — как можно ласковее проговорил я и, когда она протянула руку, пожал ее. — Спасибо и вам, Ксеня, за вечер и до свиданья», — обратившись к ней и слегка наклонив голову по старой, еще военной, офицерской привычке, продолжил я и, так как она тоже протянула руку, пожал ее холодные белые пальцы; когда же повернулся к двери, чтобы взять лежавший у порога рюкзак, прямо передо мною уже с рюкзаком в руке словно выросла, загораживая все, фигура Василия Александровича.
«Я помогу», — сказал он.
Я молча взял у него рюкзак и накинул на плечи.
«Ну, до свидания, — еще раз обратился я к женщинам, которые, было видно, не собирались провожать меня. — Желаю вам здоровья и счастья. Ну, Василий Александрович...» — начал было я, но он не дал договорить.
«Я провожу, ничего, мы еще обнимемся», — сказал он и открыл дверь.
Молча прошли мы через темные сенцы, спустились с крыльца и так же молча прошли через двор; когда уже оказались за калиткой, как и во время того, давнего прощания, он вдруг жестко взял меня за плечо и, взглянув в темноте в лицо, с какою-то будто просьбой проговорил:
«Не думай обо мне плохо».
«А я и не думаю».
«Облить грязью человека всегда легко, а понять его душу трудно. Не думай плохо, слышишь, говорю тебе».
«А я и не думаю».
«Ну, дай обниму на прощание, что ли, — добавил он, и я снова ощутил под рюкзаком на спине его широкую, теплую и жесткую ладонь и возле щеки своей его щеку. — Иди. И хорошо, что зашел, и заходи еще, ради бога».
Я не оглядывался, когда по неосвещенной, темной улице уходил от дома Ксени, но знал, что Василий Александрович стоит у калитки и смотрит мне в спину; ему тоже, наверное, как и мне, нелегко было теперь, после этой нашей встречи, он по-своему видел, понимал и переживал ее, представляя, как он обошелся со мной, бывшим своим фронтовым товарищем, но все мы в какие-то минуты жизни бываем эгоистичны, и потому я не думал, с каким чувством остался Василий Александрович у калитки; меня не волновали его переживания; даже злости той, что испытывал в комнате, прощаясь со всеми, теперь как будто не было во мне, а лежало на душе лишь какое-то горькое, неприятное ощущение, будто я проглотил что-то колючее, жесткое и надо было чем-то запить, чтобы размягчилось и растворилось это колючее и жесткое. Я невольно сравнивал то, как Василий Александрович держался дома, в присутствии Ксени, с тем, как разговаривал со мной (и ведь это не первый раз!) только что, когда мы стояли вдвоем, и мне казалось, что было что-то унизительное в его словах: «Облить грязью легко, а понять душу трудно» — и особенно в просьбе: «Не думай плохо». «Конечно же, он виноват, — говорил я себе, — и все дело в нем, как они живут, в каких-то дурных, может быть, отвратительных поступках, которые он совершает, понимая, однако, что делает гадко, но повторяет снова и снова, не в силах побороть своего характера, и потом кается, — есть же такие люди, и сколько угодно, терзающие свои семьи! — вымаливает прощение у Ксени и Марии Семеновны, как вот сейчас вымаливал у меня. Но Ксеня, Ксеня!..» Ни в какую гостиницу, разумеется, я не пошел, это не входило в мои планы; и в Речицу и Ветку я уже не поехал; знакомая с давних лет дорога привела меня на вокзал, и я до утра просидел уже, конечно, не в холодном дощатом бараке, а в теплом и светлом зале ожидания для пассажиров, на скамье рядом с разросшимся в дубовой кадке и заслонившим своими широкими листьями весь угол фикусом, а как только открылись кассы, взял билет на Москву.
Покидал я Калинковичи опустошенным, на душе было так тяжело, что ни о чем не хотелось думать; но и не думать я не мог, передо мною постоянно словно стояли две Ксени: та, какою я знал ее прежде, и эта, какой увидел теперь, похудевшая, утомленная, — и при одной лишь мысли, что она несчастна, а в том, что она несчастна, я ни минуты не сомневался, я весь как бы съеживался от страдания и боли. Я не знал, в чем она несчастна, но мне казалось, что все было понятно мне. Мне было жалко ее; вместе с тем, как ни обвинял я Василия Александровича и как ни казался он мне жестоким и нехорошим, было жалко и его, и Марию Семеновну, и те ее слова: «По ночам валенки подшивать» — теперь будто расшифровывались, и я представлял, как Василий Александрович, вернувшись с дежурства из диспетчерской, пристраивался на низенькой скамеечке у стены (я видел эту скамеечку, она стояла под лавкой, у печи), брал валенок, зажимал между коленями и, однорукий, сгорбленный, ловчась, помогая себе подбородком, плечом, грудью, работал до поздней ночи, подрабатывал, а зачем? Где его приработок? Вся жизнь Василия Александровича, Марии Семеновны, Ксени с ее явной семейной неустроенностью и непонятною (ведь с приработком!) нуждою оставляла тяжелое чувство. «Опоздал», — мысленно говорил я себе, лежа на полке в купе, и ни на что как будто не глядя, и ничего не замечая вокруг, лишь чувствуя, как все прошлое — и мое и Ксени — и будущее словно сливалось в этом одном и горестно звучавшем для меня слове.