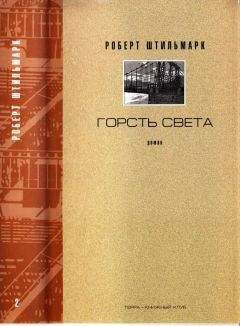Иван Мележ - Метели, декабрь
Но в этом своем поступке не усматривал ничего из ряда вон выходящего, тем более героизма. Просто повседневные хлопоты секретаря. Однако поддерживал, не остужал в душе горячего стремления, которое было теперь самым важным для него: как бы далеко ни было и какие бы нелегкие дороги ни вели туда, все равно доедет, доберется. И докопается. Все раскопает. Сам.
Дубодел ворохнулся, полез в карман. Закурил. Отвернувшись, чтобы дым не шел на Башлыкова, думал. Глаза, прищуренные, сосредоточенные, отражали что-то острое, жестокое. Судорожно дергались худые скулы. Курил суетливо, нервно. Окурком обжег пальцы. Едва не выматерился. Со злостью бросил окурок в снег, плюнул. Не глядя на Башлыкова, будто думая вслух, с хрипотой, но горячо произнес:
— Им разговорчики те… — Он осекся. Хотел, видимо, найти нужное слово, брезгливое. Кончил обычным, с пренебрежением: — Как горох об стенку.
Башлыков не шелохнулся. Будто не слышал. Но слова Дубодела поразили его. Дубодел словно прочитал его мысли, высказался за него. Башлыкову это не понравилось. Он как бы услышал оскорбление своей работе.
— Без разговорчиков тоже нельзя, — сказал Башлыков поучительно, со значением. «Разговорчики» выговорил с насмешкой — поставил Дубодела на место.
Дубодел то ли не заметил иронии, то ли сделал вид, что не замечает ее, сказал прежним тоном:
— Им не разговорчики нужны!
В его тоне Башлыков услышал и твердую убежденность, и тревогу, и даже боль и заинтересованно ждал, что же он еще скажет.
Однако тот сжал губы, молчал.
Башлыкова уже не раз удивляло его умение молчать. Скажет что-нибудь важное и оборвет речь, не договорив. Думай, гадай, как понимать.
Это удивляло, тем более что в выступлениях своих Дубодел был на удивление говорлив и горяч: как начнет палить без передышки, кажется, не остановится.
— Разъяснять надо, — сказал Башлыков устало. — Без разъяснительной работы нельзя…
Дубодел отозвался не сразу.
— Много разговоров у нас… — Он говорил с той же убежденностью и как бы осуждая. — Народ слушает, слушает, а сам думает: говори, говори…
Слова эти задевали Башлыкова, бередили свежую рану. Хотелось возразить.
— Нельзя без разъяснительной работы…
— Разговоры само собой… — не то соглашаясь, не то думая вслух, сказал Дубодел. — А только мало этого! — Он помолчал минуту, сказал горячо, настаивая: — Браться надо за него! Крепкой рукой! Как товарищ Сталин учит. По-большевистски.
— А мы что же, не беремся! — У Башлыкова враз прорвалось возмущение.
Дубодел не шевельнулся.
— Вы-то беретесь, — продолжал, как бы обдумывая свое. Помолчал минуту. — Да нужно, чтобы все брались!
Он будто поучал Башлыкова, но гнев у того остыл.
— Надо.
Дубодел продолжил поучительно, солидно:
— Особенно те, которые на месте. В низах.
Башлыкову уже совсем не хотелось ни сердиться, ни даже спорить. Чувствовал, что Дубодел говорит не только искренне, с болью за него, но и с горячим желанием предостеречь, помочь. Он хорошо понимал настоящее положение, чувствовал его сложность.
— Вы руководите, даете указания, как надо и что надо, — у Дубодела заходили желваки. — А на месте должны браться. А они нет, не берутся! Только делают вид! Сердобольные! Потому и идет слабо!
Снова ехали молча. Покачиваясь в возке под чуть слышный топот копыт и поскрипывание гужей, Башлыков думал про Дубодела. На вид неуклюжий, не очень-то грамотный, а с головой. Недалекий, казалось бы, а видит и вокруг и вглубь. Правильно видит и, главное, мыслит. Лучше, чем некоторые «далекие», образованные. Умный по-своему. Все ясно, просто у него. Позавидовал.
Подумал с улыбкой: необразованный, а тактичный какой! Слова лишнего не скажет, каждое слово значимое. Подумай, говорит, рассуди.
А главное, искренность какая, преданность. Все с душой, со страстью…
— Глушак етот, Евхим — штучка! — вымолвил, погружаясь в свои мысли, Дубодел.
«Штучка» сказал так, что Башлыков посмотрел внимательно.
— Что еще выкинет. Посмотрите.
Предсказывал с такой уверенностью, будто знал уже, загодя.
— И Игнат — загадочка!
В памяти Башлыкова надолго засело это «штучка», «загадочна». Засело тем более крепко, что сам считал так же[4].
2Долго молчали. Конь теперь не бежал — ковылял терпеливо по свежему снегу. Возок не бросало на поворотах и на ухабах, мягко вело. И деревья, и черно-белая пестрота плыли медленно, казалось, что им и конца не будет.
Но Башлыков думал о другом. Растревоженная память возвращала его назад, в Курени, к увиденному и услышанному там.
Прежде всего растравляло, жгло непонятное. Невероятное. Как это могло случиться? Почему выпустили после ареста, после такого преступления? После покушения на советского работника. Посягательство фактически на законы и порядки, установленные советской властью. Выпустили явных антисоветчиков, врагов. Арестовали, отправили и отпустили. «Гайлис приказал. Пожалел детей!»
Какие добряки! Сам отец не заботится о детях, так он позаботился! И Глушака, взрослого уже, пожалел, видно, тоже, чтоб не тревожить отца! Проявить такую доверчивость, глухоту и слепоту. Просто невозможно поверить, что это всего лишь непонимание элементарных законов! Не хочется думать, что тут и похуже, сознательное укрывательство, но факты же вопиют! Не поставили в известность райком, даже соответствующие органы! И не знал бы никто в районе, если б не приехал, не раскопал! Сам!
А секретарь ячейки — просто удивительно — был при этом, видел все, и хоть бы что. Смотрел, наблюдал, как посторонний, не поправил, не возразил! Не уведомил райком! Сигнала не подал!
Не выходило из памяти: «А нас куды? Всех нас куды? На подстилку! На навоз! Или, как вошь, под ноготь!» Запомнилось так, будто еще звучало в ушах. Будто обжигал зверский взгляд. Он хорошо понимал значение этого взгляда, понимал опасность, которая таилась в этих глазах. К тому же примешивалось насмешливое, оскорбительное: «Знаете хоть, как отличить гречиху от ржи?.. Дела нашего не знаете! Дак хоть грамоту знаете! Давайте к нам!.. Ну от!» Точило, жгло злое, злорадное «ну от». Я так и знал: ты только уговаривать мастер, а сам будешь сидеть в сторонке, в чистой квартире в Юровичах, в кабинете своем!
Как они, Гайлис и Глушак, могут мириться с такими! Как могли простить открытое выступление против колхозов, против советской политики! Более того, арестовать, отправить в сельсовет и выпустить, классового врага выпустить на свободу! Башлыков никак не мог свыкнуться с этим фактом, не мог спокойно думать о нем.
У него давно были сомнения относительно большевистской принципиальности Гайлиса. И все же он не ждал от Гайлиса такого.
С этим переплетались и мысли о Миканоре Глушаке. Почему он не поправил, не возразил? Не сообщил в райком? Или не захотел сам, по своим убеждениям, или не решился пойти против Гайлиса? Разумеется, первое слово в этой истории за Гайлисом, он освободил арестованного. Гайлис — здесь незыблемый авторитет, командир. Но как можно было секретарю ячейки проявить такую мягкотелость, просто бесхарактерность, потакать всем фокусам Гайлиса! Как можно так относиться к своим партийным обязанностям, к тому доверию, какое оказано ему!
А может, здесь причина не только в мягкотелости, в подчинении Гайлису? Может, причина здесь прежде всего в том, что такая «доброта» по сердцу самому? Что самому по душе сидеть тихо-мирно, оберегать свой личный покой? Жить спокойно рядом с вражеской поганью потому, что и враги, как говорит мать Миканора, тоже «люди»? Глушак возмущался ее словами, но насколько искренне это возмущение? Не тем ли продиктовано, что тут был он, секретарь райкома? И откуда эти взгляды у матери секретаря партячейки?
И так ли уже безобидно то, что секретарь ячейки, оказывается, состоит пускай не в непосредственной, а все же родственной связи с кулацкой семьей? Конечно, в деревнях это не так уж и редко, но не оставила ли следа во взглядах Миканора Глушака эта связь? Во взглядах и поступках. Не в этом ли корень того, что Дубодел точно определил — сердобольность.
Чутье не обмануло его и в том, что здесь, в Алешницком сельсовете, руководство не на уровне. Не ошибся тогда, на собрании в Глинищах, и потом, в Юровичах, когда искал причину прорыва, в который попал сельсовет. Тогда он только предполагал, теперь уже располагает фактами достоверными, которые говорят о том, что руководство сельсовета и руководство ячейки занимают оппортунистическую позицию, не ведут должной борьбы с кулацкими проявлениями.
Когда думал об этом, росла уверенность, которая уже не раз приходила, что хорошо сделал, выбравшись сюда; раскопал, вытащил факты, прояснившие положение в сельсовете. Собственно, то, что открылось здесь, если взглянуть шире — а ему и надлежит смотреть так, хотя бы в районном масштабе, — показывает, каким образом можно вывести из прорыва и весь район. На примере этих деревень он научит всех, подымет район.