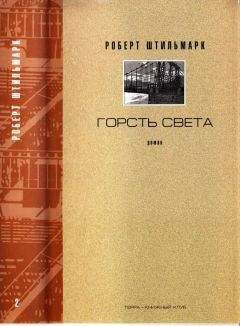Иван Мележ - Метели, декабрь
Так говорил, что было видно: не шутит. И впрямь перебьет. Жена схватилась за голову: что говорит!
— Игнатко, что ты плетешь? — почти простонала она. — Люди и вправду подумают. — Игнат глянул на нее.
— За ето знаешь что? — поддел его Андрей, дядька в кожушке, что снова оказался с ними. Он явно подшучивал — для начальства. — Засудят по закону!
— Ты, Андрей, не лезь! Куды не просят! Не суй, вроде, носа!
— Да дайте высказаться до конца! — вмешался Дубодел. В голосе его послышалось непонятное Башлыкову злорадство.
Миканор Глушак молчал, было видно, неспокоен: побаивался, должно, что этот тоже выкинет что-нибудь на беду ему.
Игнат, казалось, не мог уже остановиться. Торопился, жаждал договорить.
— А почему перебил бы? — снова потребовал он от Башлыкова: допетри. — А потому! Что с каждого глаз не своди! Тут же ставь человека за ним, вроде надсмотрщика! Чтоб глядели, как работает каждый! Чтоб стерегли добро! Глаз не сводили! А не то дел наделают! Растащут все по норам своим! И не углядишь!.. Каждый, он что? Для себя, вроде, добренький! К себе гребет! От!
Башлыков остановил Миканора, который возмущенно хотел возразить что-то, сказал убежденно:
— Колхоз быстро переделает эту психологию. В колхозе будет другая психология.
— Другая? — засмеялся, залился Игнат. — Откуда она возьмется! — Не дав никому слова сказать, заявил: — А я такого терпеть не могу! Я правду люблю! А тех, кто за правду, не любят!
— Это у вас отсталое настроение, — сказал Башлыков.
— Дак от я не пойду! — гнул свое тот. — Если б и выбрали, не пойду! — Он приостановился на минуту, остро взглянул на Башлыкова. — Да и вы не поставите! — сказал неуклонно. — Я непослушный, вроде. Неудобный! А начальство всякое неудобных не любит! Дак вы не возьмете! А если и возьмете, дак потом под зад! А я такого не люблю! И не пойду потому!
Он переждал возражения Миканора, Башлыкова с ухмылочкой: говорите, говорите, не собьете! Похоже было, что и не слушает никого. Едва наступила пауза, опять за свое:
— Да вы и поставите кого?
Игнат смотрел с насмешкой, в которой скрывались и язвительность, и неколебимое убеждение в своей мудрости. Он стремительно повернулся к Миканору Глушаку.
— Его поставите! Поставили, вроде, уже!.. А он какой хозяин, спросите? Ну, Андрей, скажи, — приказал он вдруг дядьке в кожушке.
Дядька подумал, авторитетно ответил:
— Миканор — он человек сознательный, идейный.
— Сознательный, идейный, — передразнил его Игнат. — Хозяин он какой, спрашиваю!.. Хозяин он, — сказал Игнат странно злорадно, — будто из г… пуля! От какой он хозяин!
— Вы напрасно оскорбляете, — недовольно сказал Башлыков. Дубодел поддержал его.
Игната это еще более разожгло.
— Я правду говорю. Он и в своем хозяйстве не был никогда хозяином. Поля сам, можно, вроде, сказать, один не обработал. Отец все. Или под отцовым присмотром. Не правда разве, Миканор? — беспощадно обратился он к теперешнему председателю. Тот, рассерженный, не отозвался.
— Ну, от, — Игнат, как победитель, повернулся к Башлыкову. — А теперь ему все хозяйства!
Опять с насмешечкой человека, которого никто не может сбить с единственно правильных позиций, слушал, что возражали ему. Переждав, упорно продолжал гнуть свое:
— От и вы! Откуда? — ринулся уже на Башлыкова. — Из города, видно! Знаете вы хоть, вроде, как отличить гречиху от жита?
— Ты, Глушак, брось ето! — сурово, не без угрозы сказал Дубодел. — Брось свою кулацкую антимонию!
— Игнатко! Помолчи! — запричитала жена. Ухватилась за рукав, хотела отвести в сторону, как от драки. Он нетерпеливо оттолкнул ее.
— Не лезь! — В несдержанной запальчивости крикнул Дубоделу: — Не, нехай он послушает! Потому что не скажете, — обрадованно крикнул он Башлыкову, — про гречку-жито. Не знаете!
Башлыков не спорил, смешно, ни к чему было спорить, защищать себя в такой дискуссии. Достоинство не позволяло унижать себя таким образом.
Игнат махнул беспокойной рукой, как человек, который готов на все.
— Ну, так и быть! Станьте у нас председателем! Пойду! Ей-богу! Хоть зараз! Пойду!
— Ты, Глушак, сказал уже, кулацкие свои штучки брось! — вступился вновь за Башлыкова Дубодел. — За агитацию против представителя власти, знаешь, что?!
— Дела нашего, вроде, не знаете, — Игнат не обращал внимания на Дубодела, видел только Башлыкова, — дак хоть грамоту знаете! А сельскому хозяйству научитесь! Давайте! Пойду! Ей-бо!
Башлыков сказал строго:
— Моей жизнью распоряжается партия. Куда она прикажет, туда я и пойду. Не раздумывая.
— Ну от! — отозвался Игнат с улыбкой, которая значила: я так и знал, не пойдете.
— Ты, Глушак, брось ети шуточки! — снова пригрозил Дубодел. — Далеко заведут они тебя. Запомни!
Игнат не послушал предупреждения Дубодела.
— А я и не шучу, — сказал он задиристо. — Дети вон. Кормить, вроде, надо.
Когда шли улицей, Миканор Глушак отстал, придержал дядьку в кожушке. Башлыков вскоре остановился, оглянулся и увидел, как Глушак что-то недовольно твердит дядьке, тот спорит с ним, оправдывается.
Башлыков подумал, что Глушак, не иначе, хочет отшить дядьку, который неизвестно почему крутится рядом. Согласился, что правильно делает: дядька тут ни к чему. Подумал, однако, Башлыков об этом мимоходом, тревожило его другое — только что пережитый разговор. Было от него на душе муторно, чувствовал потребность разобраться, прояснить…
— Всюду сунуть ему нос надо! — сказал Глушак, как бы оправдываясь.
Башлыков не ответил. Дымя папиросой, показал, что у него своя забота, и забота серьезная.
— Душок нехороший! — сказал он значительно, чуть кивнув на хату Игната. Взгляд, который бросил на Глушака, на Дубодела, говорил, как это важно: «душок».
— Да-а, — сразу поддержал Дубодел. Своим согласием показал, что целиком разделяет мнение Башлыкова, — это серьезно.
Глушак виновато переступил с ноги на ногу.
— Плетет сам не знает что.
— Знает. Хорошо знает, — сказал Дубодел.
В том, как сказал, чувствовались и принципиальность, и серьезность, и мудрое предупреждение: надо быть бдительным…
— От контузии, может… Контуженный был…
Дубодел дернул губами, сказал осуждающе:
— Сердобольный ты что-то, Глушак!
Башлыкова тоже удивили слова Глушака, покладистость его. Подумал: растерялся от услышанного или не хочет, чтобы сочли, что он мстит за злые слова? Или мягкотелость?..
Не додумал, глядя в глаза Глушаку, спросил главное:
— Как он, не занимался такими разговорчиками публично?
Миканор на минуту задумался. Сказал неуверенно:
— Да нет, он не вылазит особенно…
— Что значит — особенно? Значит, бывает иногда?
— Да нет. Можно сказать, нет…
— Опять: можно сказать!
Миканор совсем сник. Преодолел себя:
— Нет.
Дубодел хмыкнул с презрением.
— А летом? Когда нарезали землю? — сказал с намеком. Как бы разоблачая.
Глушак покраснел, подтвердил:
— Схватился за грудки. С землемером…
— Взяли под арест, — Дубодел объяснял Башлыкову. Открыто, преданно. — Отправили в Алешники, в сельсовет.
— Судили?
— Не, отпустили.
— Когда?
— Сразу!
— Кто?
— Гайлис.
— Почему?
Дубодел промолчал. Молчание его сказало больше слов: он, Дубодел, до сих пор понять не может такого фокуса.
— Из-за детей… Пожалели… — отозвался Глушак. Башлыков будто не понял. Вдруг, не докурив, бросил папиросу в снег. Решительно приказал Глушаку:
— Веди!
Глава пятая
Часа за три обошли еще десяток хат, осмотрели все колхозное, пообедали у Миканора Глушака.
Было далеко до вечера, когда выехали из Куреней. Башлыков хотел побывать еще в Мокути, одной из самых далеких и глухих деревень района.
За крайними куреневскими хатами начиналось небольшое поле — белый чистый простор. Конь бежал трусцой, не очень-то торопился, поле скоро кончилось, подступил стеною подбеленный молчаливый лес. Вскоре возок нырнул в эту таинственную молчаливость, во владения леса, которому, знал Башлыков, здесь нет конца-края.
Леса здесь, а можно сказать, и лес, единый, бесконечно тянулся более чем на сотню верст. В это загадочное владение и въехал возок.
Какое-то время ехали молча. Шаркали только полозья да поскрипывали гужи. Дубодел, сутулясь, сидел рядом с Башлыковым, поднял воротник шинельки, не то дремал, не то думал. Молчал и Башлыков. Отдыхал от недавних хлопот, от виденного и слышанного.
От лесной тиши аж звенело в ушах. Пока не обвык, пестрело в глазах от черного и белого, снега, деревьев, веток, что надвигались, свисали, исчезали, снова шли и шли по обе стороны. Утомленный, он не хотел ни о чем думать, просто не очень хорошо, не по себе ему было в этой бесконечной лесной глухомани, затаенной тишине. Чувствовал и удовлетворение оттого, что сам решился добраться до такой глуши.