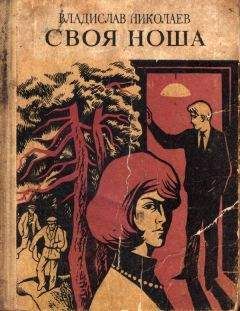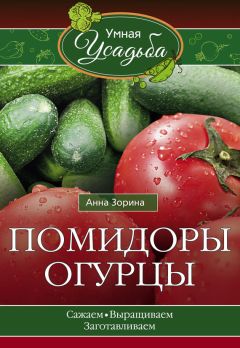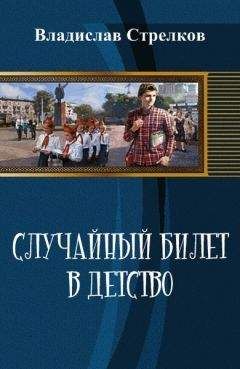Владислав Николаев - Мальчишник
На север летят перелетные птицы. На север плывут весной теплоходы. По Туре, Тоболу, Иртышу, Оби. У Березова, известного меншиковской ссылкой, один из теплоходов поворачивает на запад, в Сосьву, и еще через сутки пути пристает на реке Ляпин к поселку Саранпауль.
Всю дорогу за окнами кают зеленеют однообразные низкие берега, на палубах гремит музыка — развеселые песенки про любовь и туманы, причем уже на второй день песенки, как и берега, начинают повторяться, набивают оскомину; а в каютах — мягкие диваны, зазывные столики, сверкающие умывальники с горячей и холодной водой, все располагает к праздности и веселью.
На всем теплоходе один Вениамин не берет в рот ни капли хмельного, упрятал деньги за подкладку куцего Пиджачишка и вытаскивает по рублику только на еду — не от скупости жмется парень, не от жадности, не потому, что Плюшкин, а потому, что боится остаться без копейки; как перст один Веня на всем белом свете, ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер, ни родни маломальской, дальней; вырос в детдоме и, как многие детдомовские ребятишки, родства не помнящие, фамилию получил Непомнящий. Постоянной бережливостью страхует себя Вениамин от всевозможных превратностей судьбы.
…Чем бесшабашнее веселье на теплоходе, тем сильнее оглушает берег. Не отошедшая после зимних стуж земля гремит под ногами, как чугунная. От ветхих домов с провалившимися крышами пахнет тленом. Поселок, некогда стоявший на бойком тракте, по которому на тройках с малиновым звоном вывозили в столицы пушнину со всей Сибири, теперь затих, и несколько новых домов — контора, мастерские, склады, магазин, столовая — не в состоянии пока возродить его к жизни. Поселок ждет открытий.
На западе над черными лесами висят горы, на них еще лежит снег, и днем они кажутся легкими и прозрачными, как облака, а вечером, когда обливаются закатным заревом, горят жарко, точно груды раскаленных углей, но днем и вечером от них одинаково тянет холодом, и недавние пассажиры стараются не смотреть на горы, потому что не сегодня-завтра сами там будут…
Вымокший, со сбитыми лапами Захар прыгает вокруг хозяина, скулит, просится на руки. Хозяин на жалобы щенка не обращает никакого внимания. Он думает о своем. Думает о том, что нынче ему крайне не повезло. Партия крохотная. Продуктов кот наплакал. Не разбежишься шибко. И с женщинами бедно. Одна геологиня. Он бы не прочь и с ней побаловаться, но такую не возьмешь голыми руками. Да и муж под боком. Зачем только жены шатаются вместе с мужьями. Тоска! Как тут не вспомнить прошлое лето.
Прошлым летом Лева работал в топографической партии в Саянах. В партии были одни девушки, если не считать самого Леву да конюха хакаса Захара. Этот Захар в счет не шел. Есть да спать только и умел, на другое ума не хватало. Да и страшноват был: глаза-щелочки, нос сплюснут, зубы выбиты. Рядом с ним Лева выглядел лучше некуда — да еще золотая фикса во рту!
В горах было много змей. Начальница предупредила: перед тем как ложиться спать, тщательно проверять спальные мешки.
Вечером Лева намочил веревку и засунул в Захаров спальник. Девчата сидели вокруг костра, когда из мужской палатки донесся истошный вопль, а секундой позже, крутясь волчком, выскочил на одной ноге Захар — откуда только и прыть взялась в сонливом, вялом хакасе.
— Ай-ай-ай! — благим матом причитал он. — Кусил!! Ай-ай-ай! Везите к врачу!
Девчата тоже всполошились, но Лева шепнул им про мокрую веревку, и они, глядя на прыгающего Захара, так и покатились со смеху. А Захар совсем обезумел. Пришлось и ему рассказать про веревку. Куда там — не поверил!
— Какой веревка! Какой веревка! Настоящий змея!! Зубы чувствовал! Жало кусил! Везите к врачу!
Долго Леве не забыть Захара — вот и щенка в честь его назвал.
А с девчатами вытворял еще и не такое. Заспятся утром — подгонит к их палатке лошадь, привяжет веревкой к седлу спальные мешки и выволакивает на середину поляны. Девчата визжат, выпрыгивают из мешков в одних рубашонках. Загляденье! Потеха на весь лес! Леве все с рук сходит, все прощается — потому как единственный настоящий мужчина… И в еде — хоть и девки — ни черта не понимали. Что ни сварит, то и сойдет. Еще нахваливают, без спасибо от костра не отойдут… Умора! Все лето чагой поил вместо чая, а чай в пачках потом в городе на шампанское променял. Житуха была! Не то что теперь. Теперь, того и гляди, сам с голоду подохнешь.
А Вениамин задумывает-загадывает о том, как осенью, по окончании сезона, поедет он в Брянскую область, будет ходить из деревни в деревню, от дома к дому, будет во все глаза вглядываться в лица прохожих. Одно только и известно Вене из собственной родословной: родился в последний год войны на Брянщине. А вдруг найдет отца или мать или брата с сестрой — счастливее Вени человека не будет на свете!
Кроме рюкзака каждый несет на себе еще всю свою жизнь: у одного эта ноша легче, у другого — тяжелее…
6— Эге-ге-ге! Начальник! — кричит Лева. — Иди сюда! С женой плохо!
Коркин вздрагивает, бросает повод и, обегая лошадей, идущих по тропе, спешит в конец каравана.
Маша, перегнувшись пополам, держится левой рукой за корявую березку, а правой утирает платком рот. Белопанамный накомарник валяется в траве. Смятые волосы упали на щеки, открыв по-девичьи тонкую незагорелую шею.
Поодаль со смущенным видом переминаются Вениамин и Лева.
— Почти сутки тащимся, — ворчит Лева. — Тут и мужика стошнит, не то что бабу.
— Устала? — беря за локоть жену, спрашивает Коркин.
Маша отрицательно мотает опущенной головой.
— Я велю с одной лошади сбросить вьюки. Поедешь верхом.
— Не надо. Сама дойду.
— Что хоть с тобой?
— Ничего страшного. Может, ягод зеленых пожевала — оттого…
Маша подняла голову, лицо было бледным и мокрым от слез, но блестящие мокрые глаза, как ни странно, светились радостью.
Коркин недоуменно пожал плечами. Пробормотал:
— Может, все-таки высвободить лошадь? Александр потом съездит за вьюками.
— Не надо, — повторила Маша. — Скоро ведь придем на место?
— Скоро, — согласился Коркин.
Речка, вдоль которой они шли, давно превратилась в узенький ручеек. Остались позади большие деревья. Вокруг росли высокогорные приземистые елки, сосенки, лиственницы, извивистые, с черными стволами, будто обугленные березы. Туман рассеялся. Рассвело. С берез на лиственницы, с лиственниц на березы перепархивали стаями чечетки, щебетали, звенели, чокали, приветствуя новый день.
Маша подобрала с земли накомарник, подняв обе руки, надела его на голову, расправила марлевую сетку и ступила на тропу.
Глава вторая
— Пришли! — сказал Коркин и, высвободив из лямок натруженные плечи, сбросил на землю рюкзак.
Они остановились на безлесном плато. Справа в седых зарослях тальника, в сырой уремине протекал ручей, а метрах в пятистах по другую руку вздымался Ялпинг-Кер Ближе к подножию склон горы был завален огромными ребристыми камнями — корумником. На голой далекой вершине, как сторожевые башни с зубцами, чернели два останца. Гора была так массивна и так высока, что, приблизившись к ней, и люди, и лошади стали как бы вдвое меньше.
На плато необрубленными сучковатыми деревьями — сосной, лиственницей, березой огорожен олений загон — кораль; деревья в изгороди высохли, покраснели, далеко видны на фоне сочной альпийской зелени.
Судя по всему, последний раз оленеводы стояли здесь совсем недавно: трава вокруг вытолчена, в кустах валяются дочиста обглоданные, не успевшие еще вылинять розовые кости, а в самом центре плато возвышается остов чума-времянки — корявые березовые жерди, поставленные конусом и связанные сверху сыромятным ремнем.
— Вот и посадочная площадка готова, — сказал Коркин, оглядываясь, — надо только жерди уронить да натаскать побольше свежей хвои для сигнального костра. Давай, Веня, займись-ка этим.
По блеклому небу ползли рваные, как ветошь, унылые облака, взошедшее солнце пряталось где-то за горой, и было совершенно непонятно, какой наступает день — светлый, ясный или пасмурный, ненастный, то есть летный или нелетный.
В партии каждый знал свои обязанности, и вот уже Александр Григорьевич и Герман развьючивают лошадей (проводник плечом подпирает вьюки, а Герман снимает их с седельных крючков и сбрасывает на землю), повар оттаскивает в сторону мешки с посудой, а Вениамин вооружается топором.
Маша вытащила из рюкзака полиэтиленовый мешок с умывальными принадлежностями, перекинула полотенце через плечо и направилась к ручью. «Сказать или не сказать? — в смятении думала она, осторожно раздвигая мокрые кусты. — Как он воспримет новость? Лет пять уже и не заговариваем на эту тему…»
В прошлый раз, когда она привела домой чужого мальчика, он так перепугался — руки задрожали, кровь от лица отхлынула, — страшно и больно было на него смотреть. Она не хочет, чтобы ей снова было так же больно. «Господи! — упрекнула себя Маша. — Да разве можно не доверять Кольке? Кому же тогда и довериться? Вспомни свою первую встречу с ним, вспомни!»