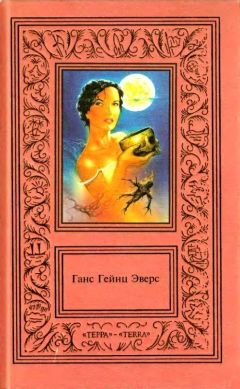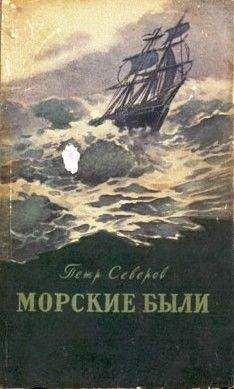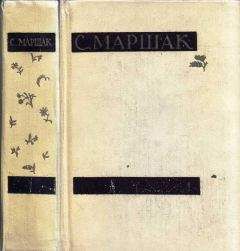Петр Северов - Сочинения в двух томах. Том первый
— Ты пойми меня, Таня, — говорил я, — надо быть сильной в такие минуты…
Я говорил много, и мне казалось, что слова пересохли, как эта осенняя листва, и Таня слушала так, точно не верила мне, уже боязливо доискиваясь чего-то другого.
Я это видел. И, не решаясь приблизиться к тому главному, что нужно было сказать, начал говорить о всяких пустяках. Но ее глаза непрерывно росли. Они были огромны.
Я не трусил сказать ей правду. Было только желание все ей отдать, чтобы она тише пережила свое горе.
Именно поэтому, когда в третий раз я упомянул имя Павла, и она, пошатнувшись, закричала мне в глаза:
— Да говори же, не ври, что случилось?!
Я соврал:
— Ничего не случилось… Абсолютно ничего!.. — забормотал я и засмеялся фальшивым смехом, как никогда еще не смеялся.
Но в эту минуту из парка в переулок перескочил через забор наш сосед, коногон Сергей. Прыгая, он упал на руки и, даже не успев подняться, выкрикнул одним вздохом: «Танька! Павлика убило в шахте!»
Она рванулась вперед и снова упала на скамейку, словно кто-то ударил ее в грудь.
Ее лицо вдруг исказилось. С ненавистью она глянула на меня. С трудом поднялась и побежала к руднику, тяжело, как будто непреодолимый ветер хлестал ей навстречу.
…Павла хоронили на следующий день.
Шахтеры, от мала до велика, шли за ним. И над рядами плыло большое молчание. Никто не плакал. Может быть, поэтому не плакала и Таня. Она стояла у могилы спокойная, открытая.
Но я еще помнил крутые и стремительные, как черная молния, линии гнева, перечеркнувшие это милое лицо.
Здесь мне запомнились только два слова; «Прощай, Павел». И показалось — они не тронули ее раздумья.
Она возвращалась домой, как бы приподнятая пережитым. Минуту она помедлила у рыжей горки, словно еще убеждая себя или стараясь запомнить дождевой запах глины.
Я чувствовал, что чего-то еще не было сделано. Не в оправдание моей лжи. Но не было сказано чего-то значительного.
Хотелось уйти в степь, в бурьяны. Там плыла проникновенная горечь полыни. Но я шел сзади, немного в стороне.
Ее провожали до самого крыльца седые товарищи. Бородатые мастера угля. Хмурые подростки, сразу забывшие детство.
…Когда проходили парком, на повороте аллеи она вдруг остановилась. Ее лицо было испуганно и удивленно. Оно отразило толчок, будто сердце ударило сильнее.
Что-то вспомнив, она осмотрелась вокруг. Стало очень тихо, — верно, потому, что остановилось все.
Она увидела меня. В первый раз за целый день! Она покачнулась, и пошла ко мне через репейник и сухой пырей, и протянула мне руку.
Я сжал её руку, задыхаясь.
В ПУТЬЯ не слышу, когда он входит в комнату. У него такой легкий шаг. Поднимая глаза от книги, я вижу его на пороге — высокого, смуглого, улыбающегося, с походной сумкой за плечами. Я не знаю этого человека. Но он уже хозяйственно опускает сумку и, потирая ладони, идет к столу.
— Ну, вырос же ты, Василий!.. Не узнать!
Теперь он стоит с протянутой для пожатия рукой.
Что-то давно знакомое в складке крепких губ, в голосе, в пристальном взгляде.
— Да ведь это Федя! — говорю я вслух, еще не веря своим глазам.
— Верно! — смеется гость. — Он самый…
Мы тискаем друг друга, скачем по комнате, опрокидывая табуретки.
С улицы, стуча деревяшкой, вбегает испуганный отец.
— Да это ж Федя! — кричу я. — Федя нашелся!
И отец всплескивает руками, тоже громко смеется и громко трижды целует Федю в лоб.
— Хорош Федор… птица залетная… хорош!
Потом мы садимся вокруг стола, и я уже не могу поверить, что со дня нашей последней встречи прошло целых семь лет, что двенадцать лет тому назад мы носили воду косарям, делили корочку хлеба и боялись души пастуха Афанасия в лесу. Сколько раз позже я принимался искать Федю, сколько расспрашивал о нем в разных воинских частях после того, как он ушел с богучаровцами на фронт.
И вот он сидит рядом, обветренный, веселый, и карие глаза по-прежнему горячи.
Отец наливает в стаканы молоко, достает с полки душистую ржаную буханку.
— Рассказывай, Федор, где гулял…
Он раздвигает крепкие плечи; легкая морщинка ложится меж бровей.
— Большие дороги! На заводе работал. По чугуну. А сейчас прямо из села. Отпуск.
— Вон каков, а? — удивляется отец и восторженно снимает кепку. — Мастеровой, значит?
— Доменщик.
— Поближе к огню вышел?.. По характеру?
Федя смеется. На зубах поблескивает молоко.
— По характеру…
В его движениях неловкая торопливость. Шарят в карманах руки, постукивают каблуки, колышется расстегнутый ворот сорочки, и, похоже, ветер запутался в волосах.
— Ты умывайся, — говорю я. — Причешись. В парке сегодня с трех шахт народ соберется.
Он оглядывается на окна — в синеве стекол только загорелись звезды. Медленно текут ручейки. У него смущенная улыбка, но твердо блестят глаза.
— Времени у меня — ни минуты… Две ночи не спал, и эту тоже не уснуть!
— Ну, курьер! — шутит отец. — Ведь на дворе-то вечер… Ишь ты, дипломант…
Федор встает. Он двигается легко, как дышит. У двери он поднимает холщовую сумку, минуту любуется ею.
— Вот она, бессонница… вся тут. А вечер, ночь — пустое дело!
Отец торопливо достает кисет, но — верный признак заинтересованности — закурить забывает.
— Что же это… капитал?
Подходя к столу, Федор говорит серьезно, не улыбаясь;
— Может, миллионы, может, больше… Такой я гость.
— Шутник!
Рыжая глина сыплется из сумки на стол. Целый ворох пористой рыжей глины. Он собирает комки, разбежавшиеся по скатерти, ласково разглаживает их на ладони.
— Вот она, золотая. Горит!
Отец перестает смеяться. Он берет комочек глины, разминает ее в руке, нюхает, пробует зубами.
— Глина как глина, — заключает он осторожно. — Крута.
Я замечаю только густо-красный ее цвет и не могу вспомнить, где видел такую же глину — то ли в карьерах, то ли в шахте.
Федя ходит по комнате. Его странное нетерпение возрастает, движения крепких рук отрывисты и резки.
— Ты помнишь, Василий, старые криницы за яром? — говорит он, останавливаясь у печки, в тени. — Помнишь, как искали мы «ведьмин клад»? Что мы знали в то время? Сказки да сны. А вот глина та, что у криниц, в самую душу мне запала. С детства чуял, особая глина: тяжелая, плотная, в кристаллах, в побежалых цветах. И верно, особая она — красный железняк! Я теперь с одного взгляда любую руду отличу… Да какой железняк! Пласт — махина! Разве тут думать о сне?
Наверное, впервые в жизни отец держит в руке руду. От волнения пот выступает у него на лбу. Так, молча, мы сидим и смотрим на Федю.
— Надо такой пожар раздувать, Василий…
— Неужели руда? — с новым приступом удивления повторяет отец, старательно растирая ее в ладонях. — А сколько я топтался по ней… не чаял!
Я поднимаюсь, надеваю кепку. Под самым сердцем, как при разлете качели, — скользкий холодок.
— Мы идем смотреть, Федя. Все равно не утерплю!
Он довольно смеется.
— Вот видишь… Куда тут гулять!
В чулане я нахожу лопату и кирку. Отец провожает нас до перекрестка, с радостью отдает на дорогу весь табак и еще предлагает мне свою теплую рубаху, а Феде — зажигалку «на случай». Он похож на озорного мальчишку в эти минуты — смеются глаза, веселая улыбка не сходит с лица.
Вечер тихий и синий. Еще не взошла луна, но в далекой степи повторяются отсветы шахты. В переулках зажглись первые фонари. Мы идем по широкой мягкой дороге, и, проходя мимо Валиной квартиры, я останавливаюсь на минутку, стучу в окно… Валя выбегает на крылечко, быстрая, в белом платьице, с тугой, стянутой на затылке косой.
— Это мой старый друг, — говорю я Вале. — Жми руку… — и коротко рассказываю о Фединой находке.
Она привстает на носки, слушает, не качнувшись.
— Я пойду с вами, ребята, — говорит она решительно, и голос ее слегка дрожит, — Не отвяжетесь. Пойду — и точка.
— Нам только веселее, — смеется Федя. — Идем!
Она убегает, чтобы надеть жакет, и вскоре появляется у калитки.
— Теперь — в путь! Хорошо, что зашли… Может быть, и правда счастливый вечер?
У нее звонкий, взволнованный голос. Так хорошо идти рядом, слышать его…
— Будем бродить, как следопыты. До зари. Верно ведь, до зари? А если дождь… что нам дождь! Утречком просохнем…
Федя говорит задумчиво, глядя в степь:
— Может, мы целую страну открываем? Да что может… Факт! И никто не знает. Тишина…
За последними постройками сразу широко развертывается степь. Над горизонтом, над потемневшей полосой зари улеглась темная туча. Чистым розовым светом обведены нижние края. Ярко горят огни Медведицы. На тихой придорожной траве, на серебряной листве лопуха, на пырее и иглах колючек первые отблески дрожат, как роса.