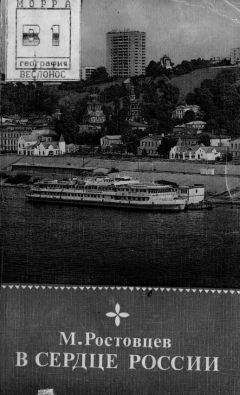Юрий Сбитнев - Костер в белой ночи
И Глохлов принял решение. Две недели шел он по таежным следам экспедиционной партии, точно не зная, та ли, в которой идет преступник. А если нет, то начинай все снова. Партий в том году в тайге было добрых два десятка. Оброс Глохлов за две недели, отощал, оборвался, но все-таки нагнал геологов. Вывалился из тайги на их стоянку и в первый же вечер у костра увидел в руках у одного из парней необычную плитку чаю.
Парень снял обертку, кинул ее в костер, и Глохлов, достав прутиком уже занявшуюся было огнем бумажку, сказал:
— Хороший чаек пьете.
— Выдержанный, — осклабился «чаевник». На обертке стоял год выпуска — 1924-й. С тех пор и лежал в лабазе у охотника и пролежал бы еще. «Для черного дня», — объяснил потом Ганалчи Почогир.
Каким же он должен быть, этот черный день, коль только что минуло военное лихолетье?
С тех пор и занялась у Глохлова дружба с семьей Почогиров, а через них — и со всеми эвенками…
7 октября, вниз по рекеОстановились на ночевку возле скрадня — врытой в землю бочки с бензином. Заправив бачок и две канистры, Глохлов решил, что идти в сумерки рекою опасно, лучше дождаться утра, переночевав тут.
Нарубили лапника для подстилки, соорудили навес на случай дождя ли, снега, вскипятили чай и теперь вот грелись у огня.
— Знаешь, Комлев, а ведь это ты убил Алексея Николаевича.
— Так ведь я вам говорил…
— Нет, не так, как говорил. По-другому. Ты его не случайно убил.
— Это как же так?
— А вот так! А как, я тебе рассказать могу. Только лучше тебе самому правду сказать. Все равно ложь-то вскроется.
— Ин-те-е-е-ресно, — Комлев наклонился к Глохлову, чтобы лучше разглядеть его лицо.
— Интересно или нет, но не получается в жизни так, как ты говоришь. Не так все было, Комлев, не так.
— А как же?
Не обращая внимания на вопрос, Глохлов продолжал:
— Что не так, ты сам знаешь. Но вот силы-то, мужества гражданского у тебя не хватает, чтобы признаться.
— Вымогательство это, вымогательство…
— Ишь ты, какими оборотами-то…
— Не по закону опять же действуете. Хотите добиться нужных вам показаний. Это мы знаем. Учены.
— Что, не в первый раз дело с милицией имеете?
— В первый ли, в последний, Матвей Семенович, только я вот что скажу. Вы при оружии да при силе. Вы, конечно, из меня что угодно выбить можете, вы даже меня и прикончить можете, — снова вроде бы начал бледнеть лицом Комлев, снова задрожал его голос. — Но я вам вот что скажу: не имеете права. Не имеете! — он уже кричал, поднявшись на ноги и пятясь от костра в темноту.
— То ли и вправду псих, то ли играешь психа, — спокойно сказал Глохлов и вдруг жестко приказал: — Сядь! Ты у меня арестованный! И кончай припадничать! Сядь!..
— А что, бить будете, да? Бить? А может, совсем убьете? Так ведь я вот, — он вдруг рухнул на колени и пошел на них, вытянув вперед руки, — прощения прошу. Не убивайте, не убивайте, жить охота мне. Дети у меня! — Он уже кричал на всю тайгу, кажется сам веря в то, что Глохлов вот тут сейчас выпустит в него обойму из пистолета.
На какое-то мгновение Глохлов растерялся, а растерявшись, вдруг поймал себя на желании и впрямь ударить Комлева, уж очень противен был он. Комлев нарочно хватил себя рукою за лицо. Сорвал подсохшие на ранах струпья, и, замарав ладонь кровью, тянул ее к лицу Глохлова:
— На вот, пей кровь-то! Пей! Только хрен тебе! — вдруг взвизгнул Комлев, и лицо его разом вытянулось. — Не убьешь и не тронешь! Ты меня, если что, на себе потащишь, сам сухаря последнего не сожрешь — мне отдашь. Я к тебе законом привязан, законом! Куда ты от него денешься? Он к тебе еще больше, чем ко мне, закон-то, строг. Ha-ко, выкуси! — И поднял перед лицом сложенные в фигу пальцы.
И, задохнувшись, словно только что вбежал в гору, сел у костра, отплевываясь. Плевки шипели на углях, а Глохлов, скрытый пламенем костра, сидел, чуть отодвинувшись в тень, так и не проронив за все время ни слова, обескураженный выходкой Комлева.
А тот, отплевавшись и отдышавшись, снова говорил, но теперь уже ровным голосом:
— Я, майор, законы и кодексы не хуже твоего знаю. И ты меня на бога не бери. Мы тоже не какие-нибудь темные, мы советские тоже люди. Знаем, что к чему. На кой ты на меня убийство лепишь? На кой? За что?
— А за то, что ты золото, Комлев, крал! — Глохлов и сам не ожидал, что так ответит. Получилось это как-то помимо воли. — Крал. А на этом тебя Многояров и поймал. А ты ему за это пулю…
Комлев что-то хотел сказать, но только охнул там за пламенем, словно бы обжегся.
Замолчал и Глохлов. Тягчайшей была тишина, и даже пламя горело, беззвучно пожирая сухое дерево.
— Что молчишь? — некоторое время спустя спросил Глохлов.
— А что мне говорить-то?
— Золото крал?
— А ты видел?
— Не видел, да знаю.
— Докажи!
— Докажу.
Совсем мирная шла беседа. Только в голосе Комлева появилась едва уловимая неуверенная нотка, тогда как голос Глохлова звучал спокойно и уверенно!
— Знаю, как все было, Комлев, знаю. И доказать сумею. Золото-то под мошонкой прятал?
Глохлов шел в атаку, шел, не боясь «засветить» свою версию, которую выстроил за эти два дня пути. Он не видел Комлева, но даже отсюда, со своего места, почувствовал, как вздрогнул тот.
— Ну что, не так? Давай побеседуем. — Глохлов, не вставая, передвинулся ближе к Комлеву. — Глаз на глаз.
— У меня-то он один, у вас два. Глаз на глаз не выходит, — попробовал отшутиться Комлев.
— Не получилось шутки, Комлев, не получилось. Страшно, что говорю-то я. Что, знаю?! А?
— А я с вами не хочу глаз на глаз, — и повернулся спиной, устраиваясь на лапнике и прикрываясь полушубком.
«Знает, все знает, — словно током ударило Комлева. — Как быть теперь?»
— Боишься. Ну, раз боишься, значит, расколешься, Комлев, не сегодня, так завтра. Не крути, запутаешься. Облегчи душу-то. А то ведь все думаешь, думаешь, так ведь и в дурдом попадешь, а, Комлев?
Комлев молчал. «Знает! Знает! — молотом колотило в голову. — Как же быть-то? Как?»
А Глохлов все говорил и говорил.
— Ну, что молчите-то, Комлев? Может быть, протоколом все оформим? По закону?
Комлев молчал, кругом стояла гнетущая тишина.
Глохлов встал, почувствовав, как глубоко в кости шевельнулся осколок, и начал оправлять костер. «Ознобил, ознобил рану», — подумал, устраиваясь поближе у огня.
1 октября, вверх по рекеТогда ночью захолодало, и в час предрассветья ударил настоящий мороз, обложив все вокруг — и траву, и деревья, и кустики жимолости с багульником, и верх палатки, и стенки кустистым инеем.
Многояров проснулся на изломе ночи. Рассвет еще не пришел в тайгу, но мрак подтаял, где-то за таежным пологом чуть внятно обозначалась ранка, из которой медленно сочился синий предутренний свет.
Комлев еще спал, с головой забравшись в мешок, Многояров расшнуровал выход и вылез из палатки. Мороз был нешутейный, и Многояров в какое-то мгновение пожалел, что отказался пойти на Уян лодкой. Быстро светало, и уже угадывалась даль над головой. Она была ясной и чистой, как и вчера, а это значило, что снова будет ведро.
Что-то хрустнуло, и Многояров, подняв голову, прямо перед собой на сухой ветке увидел соболя. Зверек — был он уже по-зимнему в густой новой шубе — с любопытством рассматривал Многоярова. На смешливой, так показалось геологу, мордочке чернели быстрые бусинки и беспрестанно «ходили» ушки. Многояров резко повернулся, и соболишка юркнул за ствол, схоронился, но уже в следующее мгновение высунул мордочку, поводил ушками, стремительно взобрался повыше и затих, вытянувшись в струнку на ветке, почти слившись с корою.
Многояров вспомнил, что нынче день рождения младшей дочки. «Уже восемь, восемь лет Танюшке», — подумал. А он по-прежнему бродит таежными хлябями, лезет в скалы, спит где придется, ест что придется. И все кажется ему — молод. А дети уже выросли, и даже Танюшке, которая на десять лет младше Милы, уже восемь. И Вася-та — мужик, четырнадцать. Курьерским прокатило время.
Соболь чуть выгнул спину, приподнявшись на передних лапках.
— Восемь! Вот так! — громко сказал Многояров.
— А?! Чего?! Восемь? Я счас, Алексей Николаич! — забормотал в палатке Комлев. И заворочался, выпрастываясь из спального мешка. — У-у-у-у, — стучал зубами. — Кажись, морозище…
Многояров поднял котелок и, сняв с ветки полотенце, оставленное тут еще с вечера, сбежал по свалку к ручью. Стянул свитер, тельняшку, немного размялся и, присев над ручьем, захватил в пригоршни воду. Вода была ртутно-тяжелой и студеной. Руки, плечи, лицо и грудь занялись огнем.
«Да, тяжело придется в эти дни Николаю. Попробуй пошлихуй, повозись-ка в такой воде целый день», — думал, уже одевшись и оттирая котелок дресвою. Ободнялось, и от палатки в малый развал ручья потянулся синий дымок. Комлев развел костер, грел спину, повернувшись к огню, дискантно перхал, жадно затягиваясь махрой. Многоярову вдруг захотелось кислицы, и он почти побежал вниз по ручью, стараясь разогреться, с восходом мороз усилился. Шел быстро, все дальше и дальше, выискивая смородиновые кусты, и сочинял письмо Танюшке. Надо рассказать ей об этом утре, о соболишке, который пришел поздравить папу с днем рождения дочери, о красных гроздьях кислицы на голых ветвях. О том, что ягоды еще не осыпались и светятся, как фонарики, что их не склевали пока птицы и не съели звери, и о том, как звонко стучат ягодки в донышко котелка и морозцем щиплет кончики пальцев…