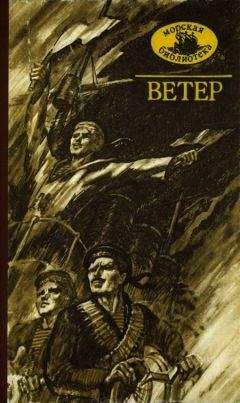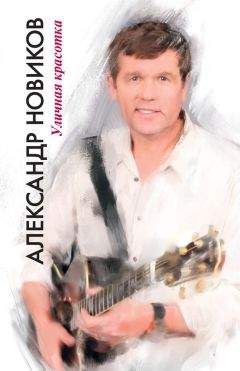Александр Серафимович - Том 2. Произведения 1902–1906
И опять я один, и опять, лежа на руле, со свесившейся головой, безнадежно, с отчаянием работаю, точно пудовыми, медленно вращающимися педалями. Так же ясно виднеется город с домами, с церквами, та же скучная спаленная, иссушенная степь с покорным бессилием простирается обнаженная, и ветер, обжигая, несется над ней без перерыва, без отдыха, с мертвым равнодушием.
Мысль повернуть назад и под ветер быстро и легко вернуться домой чаще и чаще встает в голове, но я подавляю ее. После сборов, проводов, напутствий, когда все вышли на улицу и долго следили, пока я не скрылся за поворотом, – моя печальная, возвращающаяся через несколько часов фигура была бы смешна.
Проходит час, два, ноги немеют, согнутая спина деревенеет. Я уже не оборачиваюсь, все равно от города не уедешь!
Наконец больше не могу. Останавливаюсь, слезаю. Свист ветра в спицах, в ушах, в цепи, заглушаемый до того усилиями и ездой, теперь ясно и надоедливо носится тонкой, острой, воющей ноткой, наполняя безлюдную степь. И этот свист и вой вызывают представление зимней вьюги в глухую ночь, когда, надрывая душу, за окном на все голоса носится мертвое пение, но над головой стоит раскаленное солнце и по лицу стекает пот.
Оглядываюсь, и огромное облегчение радостно охватывает: дома, улицы, крыши, сады – все затянулось сизовато-лиловой дымкой, и уже ничего нельзя разобрать в отдельности, только купол собора сияет далекой яркой звездой. И теперь, когда город потонул в лиловатой дымке, что-то незнакомое, новое и немножко таинственное, что я, казалось, еще не знал о нем, подернуло его.
IIКругом желтеет жнивье, перемежаясь со старой, заброшенной пашней, затянутой серой пылью и сизым полынком. Навстречу несется ветер, шевелится сухой и жесткий бурьянок, и необозримо простирается мутная даль.
Далеко сзади нагоняет понемногу дребезжащая бричка. В дышле бежит пара мотающих головами лошадей. Из-под колес, уносясь назад, тянется клубящееся, разрастающееся облако.
Я еду с усилием, с страданием; лошади бегут споро, и скоро я слышу позади гул и тарахтение расхлябавшегося железа, дребезжание подвешенного ведра и стук копыт.
Не оборачиваясь, с усилием, некоторое время не даю себя обойти, чтобы не попасть в удушливую, клубящуюся сзади пыль, но понемногу сбоку выдвигается окованный конец дышла, пара сытых потных маштаков, согнувшаяся, в пестрядинной рубахе и портках, с потрескавшимися загорелыми ногами, фигура на передке.
Лошади пошли шагом рядом со мной.
– Трудишься, барин?
Не хочется останавливаться и попадать в пыль.
– Ветер встречный, – недовольно бросаю я, не оборачиваясь.
– Трудно, – с убеждением говорит возница, – машина… поверти-кась…
Я стараюсь делать вид, что уж не так-то трудно, и еду, принимая непринужденную позу.
– Потому народ непривышный… слабый народ… Поверти-кась ее. Одно слово – чижолость…
Мне очень хочется выругаться, хотя человек не дает к этому никакого повода.
Он смотрит на мои с судорогой разгибающиеся ноги, дергающееся от напряжения лицо, на педали, в которых, думает, вся тяжесть, и качает головой.
– Ажнык мыло с тибе тикёть.
Я останавливаюсь и слезаю. Он тоже натягивает вожжи.
– Тьфу!.. Да ты что привязался, черт?
Но я сейчас же жалею вырвавшееся резкое слово. На меня смотрят добрые, уже выцветшие, из-под белобрысых бровей, когда-то голубые глаза, все в складках точно выделанной кожи, голое, безбородое, как у скопца, лицо, открытая, загорелая, покрытая сеткой черных морщин шея и под облупившимся от жары носом белобрысые, объеденные тараканами усы.
– Ветер и жарко, – говорю я извиняющимся тоном.
– Садись, подвезу.
Это так добродушно, бесхитростно, что я молча, не говоря ни слова, взгромоздил велосипед, и бричка покатилась.
На дне тарахтят обструганные дубовые колья, прикрытые мешками из-под хлеба. Неизъяснимое наслаждение охватывает все тело. Я разгибаюсь, протягиваю руки, ноги и лежу неподвижно, подкидываемый тряской, на мягком мешке с мякиной. По сторонам дребезжат высокие, закрывающие степь бока брички.
Из-за прыгающего передка мелькают гнедые, с отметинами ноги, ветер сворачивает на сторону хвосты; прыгают по взмыленному заду шлеи, и смирно сидят на вспотевших боках с подветренной стороны налипшие серыми кучками мухи. Пропотелая, забитая пылью пестрядинная рубаха, обтягивающая согнутую, с отчетливо выдавшимися позвонками и лопатками спину, мелькает от тряски перед глазами. Над нею прыгают свесившиеся из-под засаленного картуза волосы, до того свалявшиеся, что ветер приподнимает их колтуном, не умея развеять и растрепать.
Сквозь щели бежит назад дорога, клубясь стелющейся из-под копыт и колес пылью. Сзади же бурным ураганом уносятся зловещие чернеющие клубы, пожирая дорогу, степной простор, самое небо.
Мой возница сидит, согнувшись, покачиваясь от тряски, дергая вожжами и не обращая на меня ни малейшего внимания.
Острота усталости проходит.
– Да ты откуда сам?
Возница некоторое время молча показывает согнутую спину, потом, не оборачиваясь, неопределенно мотает головой.
– С плантации.
Я гляжу на него, на его руки, подогнутые под себя ноги.
Бывают лошади: остро выступившие под кожей ребра, вся во впадинах костлявая морда, измученные глаза, шерсть клоками, избитая, в ранах, спина. Кажется, дорога ей только на живодерку, а она без устали день и ночь возит кирпичи, бревна, воду, ест труху, пьет протухлую муть – и год, и два, и десять лет.
И у этого человека такая же костлявая худоба, такие же худые, сделавшиеся железными от непрестанной, непосильной, без отдыху и сроку, работы руки и ноги, эта согнувшаяся спина, все это изможденное, изумительно выносливое, грязное, чуть прикрытое тело. Мужичонка, самый обыкновенный мужичонка из центральных губерний.
– Тебя как звать-то?
– Онисим, – не меняя позы, роняет он, и ветер подхватывает и уносит такой же обыкновенный, как и у тысячи других мужиков, голос.
Подвязанное снизу ведро ожесточенно, ни на минуту не смолкая, дребезжит, наполняя всю степь, которая медленно и непрерывно отходит назад, все так же желтея жнивьем или сизая от жесткого, горелого, шевелящегося полынка.
– Это твои лошади, что ли, с бричкой?
Онисим торопливо оборачивается, и я вижу доброе и немножко лукавое, как у скопцов, с объеденными усами лицо, на котором написано величайшее изумление, как будто я сказал огромную глупость.
– Не-е… хозяйские…
И, как бы извиняя мою наивность, добавил:
– В работниках живу.
И вдруг засмеялся.
– Помешшик возле нашего хозяина, так к ему барин приезжал, важнеющий барин, гладкой, белотелой… Так кобылу изделал и сигал через. Сигает, сигает, аж взопреет, да-а… Истинно говорю… для ради моциену, дохтора велят, скушно ему, стало быть глиста ссёть под сердцем… Как же, много трудов примал.
И он смотрит на меня, на велосипед голубыми, смеющимися глазами, от которых во все стороны бегут бесчисленные морщинки.
– Ты сам откуда же будешь?
– Мы – рязанские… Жара!
– Жарко.
Я провел по спекшимся, шуршавшим сухой кожей губам.
– Издалече будете?
– Из города.
– А-а… далече… Тоже трудов примал, жара, сушь, опять же ветер, а ее качай ногами… Небось пить хоцца? А то не хоцца, все нутро палит, – знамо, жара.
Он полез под полсть, под которой тарахтели колья и на которой горой лежали пустые мешки, порылся рукой и вытащил небольшой, кулака в два, арбуз, кусок черного, как земля, с налипшими волосками, хлеба и крохотную желтенькую дыньку-скороспелку.
Арбуз и дыньку нарезал тоненькими ломтиками, хлеб разломил пополам, пустил мотавших головами лошадей шагом, повернулся ко мне лицом, разложил все на пахнущей лошадиным потом полсти, снял со свалявшегося колтуна засаленный картуз и истово покрестился.
– Ешь, – пододвинул он слегка ко мне.
IIIТаких арбузиков и дынек в эту жару можно съесть штук двадцать, и я жадно гляжу на влажные, искрящиеся на солнце, розовые ломтики. Некоторое время я креплюсь, – у Онисима ведь это единственный ресурс, но палящая знойная жажда одолевает, – я съедаю один кусок, другой, третий.
Онисим выгрызает одну корочку, вытирает объеденные усы, крестится, надевает картуз, скромно поворачивается ко мне спиной и подгоняет, дергая локтями, лошадей.
– Ты что же, Онисим?
– Спасибо, наелся, ешь сам.
Но я вижу, как двигаются у него под ушами желваки, – он уминает свою половину краюхи.
«Эх, скверно, – думаю я, – ну, да ничего, хорошенько заплачу ему», – и съедаю и арбуз и дыню.
Как пожар, залитый водой, утихает палящая жажда. Мне хочется отблагодарить, сделать ему приятное, и я завожу разговор:
– Что же, семья дома?
– Семейство, – говорит он, не оборачиваясь.