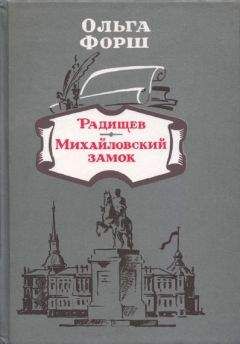Ольга Форш - Сумасшедший корабль
Они заговорили по очереди. Они отлично поняли и оценили силу стиха, богатство образов, узор языка, но им было все равно. Они кондовую мощь Микулы восприняли со стороны, как иностранцы, как тончайший Проспер Мериме воспринимал Гоголя. Весь пафос Микулы, который целиком зачался, рос и ветвился славянской вязью, был для них таким же прошлым, каким земля на китах. Чем мог он задеть молодых? Они ведь только отталкивались от этого прошлого для дня сегодняшнего. Прошлое было им как цыплятам в инкубаторе скорлупа, из которой скорей надо выторкнуться.
Но зато Микуле они разъяснили его самого всеми методами, напоследок формальным.
Микула молча шарахнул острым оглядом по углам — образов, конечно, уж не было, — шарахнул по внимательным, вежливым молодым, прослушавшим его, старого, и сказал, как несытый:
— Пойти бы куда… дух томится.
Все сроки предупреждения окончились, а Кронштадт все еще не сдавался. Ленинград открыл ураганный огонь. Курсантам выдали саваны. Один из писателей, ныне профессор, вместе с членами партсъезда отверг белый саван и черной мишенью, рискуя больше других, — пошел впереди.
Курсанты в белых саванах, не отличимые от снега и льда, взяли форты.
Скоро потом завершилось и существование Сумасшедшего Корабля. Решено было из соображений хозяйственных этот дом, населенный писателями, ликвидировать. Шли переговоры. Дом пытались отстоять.
Однажды громадный человек грузно перевалился через порог. Он снял свою кепку, придававшую ему вид породистого адмирала. Но адмиралом он никогда не был. Он был только умнейшим русским человеком такой широты, которая захлестывала порой и его самого. В довоенное время он весил двенадцать пудов, в те дни только девять. Написанные им книги — образец чудесного языка, который, возможно, будет сдан тоже в архив истории.
Разводя руками перед собственным объемом и отдуваясь, он сказал:
— Ну… я сделал для русской литературы все, что мог. Я передал Дом искусства — Деловому клубу.
Ленинград
Октябрь 1930
Послесловие
Не вытопталась, не скокошилась еще Россия.
Растут в ней люди, как овес через лапоть.
Будет жить великая русская литература
и великая русская наука.
В. Шкловский. Сентиментальное путешествиеРоман О.Д.Форш «Сумасшедший Корабль», напечатанный в 1930 году в журнале «Звезда», а в следующем году изданный отдельной книжкой, вызвал резкие нападки со стороны «партийных» критиков и много лет затем не включался в сборники произведений и собрание сочинений писательницы. Что же вызвало гнев журналов «На литературном посту», «Молодая гвардия», «Резец» и других, посвятивших не одну страницу подробному разносу романа?
Полуфантастическая петроградская реальность начала 1920-х, в которой проституткам, свезенным за город, выделяется наряд лекторов «на предмет всяческого просвещения и политграмоты», «каждый гражданин имеет право быть сожженным», а отправленный писателям в голодный Петроград вагон яиц, протухших в дороге, забирает неизвестный старик Белавенец. Все эти истории, несмотря на их невероятность, происходили в действительности, и Ольга Форш включила их в роман, практически не меняя детали. Дадим слово неназванному герою первого эпизода — К.Чуковскому: «Забуду ли те осенние месяцы, когда вместе с беллетристкой Даманской я вел на станции Разлив по Финляндской железной дороге литературный кружок в общежитии двухсот проституток, собранных с проспектов Петрограда?»19.
Знаменитый плакат-листовка «О порядке сожжения трупов в петроградском государственном крематориуме» попала не только в роман Ольги Форш, но и в стихи Александра Блока:
Как всегда были смутны чувства,
Таял снег и Кронштадт палил,
Мы из лавки Дома Искусства
На Дворцовую площадь шли…
Вдруг, среди приемной советской,
Где «все могут быть сожжены»,
Смех и брови и говор светский…
А история с вагоном яиц (в романе он превратился в ящик), добытых для писателей Николаем Оцупом («неизвестный поклонник русской литературы»), запечатлена в мемуарах К.Чуковского и его знаменитом альбоме «Чукоккала». Пока состав добирался до Петрограда, яйца успели протухнуть, и писатели наотрез отказались их брать. Появился «старичок в потертой военной тужурке» и попросил отдать ему эти яйца: «Я буду кокать их, кокать и кокать, и авось дококаюсь до такого яйца, которое еще не успело протухнуть». Как вспоминает Чуковский, «не успел старик Белавенец раскокать первый десяток подаренных ему яиц», Н.Гумилев, О.Мандельштам и Г.Иванов сочинили и записали в «Чукоккалу» стихи:
Умеревший офицер
(баллада)
посв, поэту Н. Оцупу
Полковнику Белавенцу
Каждый дал по яйцу.
Полковник Белавенец
Съел много яец.
Пожалейте Белавенца,
Умеревшего от яйца.
На этом причудливом фоне, в декорациях пустого, холодного и голодного города разворачивается повествование о Сумасшедшем Корабле — Доме искусств и жизни писателей, поэтов и художников той поры. Уверения писательницы — «пусть читатель не ищет здесь личностей: личностей нет» лишь подогревали интерес и провоцировали на поиски прототипов, скрытых в романе за прозрачными и не очень псевдонимами, цитатами и литературно-бытовыми деталями.
Собрание инициативной группы по организации Дома искусств, которую составили Ю.Анненков, А.Блок, Н.Гумилев, М.Добужинский, Е.Замятин, К.Чуковский, А.Тихонов и др., состоялось 19 ноября 1919 года. Кроме общежития для писателей должны были появиться столовая, распределительный продуктовый пункт и литературная студия20, а позднее были открыты книжный пункт (магазин) и библиотека. Новому учреждению, возглавляемому Горьким, были отданы несколько помещений в бывшем особняке С.П.Елисеева — среди них и квартира Елисеевых, «огромная, бестолково раскинувшаяся на целых три этажа, с переходами, закоулками, тупиками, отделанная с убийственной рыночной роскошью»21. В запутанных закоулках меблированных комнат было устроено общежитие, объединившее под своей крышей писателей, поэтов, художников и артистов, многократно описанное в мемуарах, романах и эпистолярии современников. В очерке «Шуба» (1922) Мандельштам писал об этом пестром сообществе: «Жили мы в убогой роскоши Дома Искусств, в Елисеевском доме, что выходит на Морскую, Невский и на Мойку, поэты, художники, ученые, странной семьей, полупомешанные на пайках, одичалые и сонные. Не за что было нас кормить государству, и ничего мы не делали».
Официальной датой открытия Дома искусств было объявлено 19 декабря, и уже в середине месяца в газетах появились объявления о Литературной студии Диска и наборе слушателей на различные семинары и курсы под руководством известных ученых и писателей. Так, предполагалось, что Е.Замятин будет вести занятия по «технике писания рассказов», Андрей Белый прочтет курс «по научной поэтике», А.Волынский — лекции «О творчестве Достоевского», Б.Эйхенбаум — «О творчестве Толстого», а К.Чуковский — о поэзии Н.Некрасова. К этому перечню можно добавить курсы Н.Гумилева («Практические занятия по поэтике»), Н.Евреинова («Философия театра»), Ю.Тынянова («Пародия в литературе»), В.Шкловского («Теория сюжета») и др. Дом искусств быстро превратился в центр литературной жизни опустевшего, замерзающего Петрограда — помимо лекций в его стенах регулярно проводились публичные доклады, устраивались диспуты и проходили литературные вечера, получившие названия «Понедельников Дома искусств».
О насыщенности литературной жизни Диска можно судить по его афишам и рекламным объявлениям в газетах. Например, в марте 1921 г. состоялись: доклад Е.Замятина «Герберт Уэллс» (3 марта), вечер «ОПОЯЗ» с докладами Е.Д.Поливанова, Ю.Н.Тынянова и В.Б.Шкловского (9 марта), вечер «Цеха поэтов» с выступлениями Н.С.Гумилева, О.Э.Мандельштама, B.Ф.Ходасевича и др. (14 марта), лекция К.С.Петрова-Водкина «Наука видеть» (17 марта) и др.22 Важным дополнением художественной жизни Диска стали постоянные выставки, концерты, организованные музыкальной секцией и заседания литературных кружков и групп — Вольной философской ассоциации (Вольфилы), Общества по изучению поэтического языка (ОПОЯЗ), вечера организованного Горьким издательства «Всемирная литература».
Все это создавало на первый взгляд картину необычайно активной жизни учреждения, ставшего, по выражению остроумного Шкловского, «ноевым ковчегом» для голодающих и замерзающих петроградских писателей и ученых. Необыкновенное время расцвета культуры посреди страшной зимы 1920–1921 годов вспоминал Осип Мандельштам, один из жильцов знаменитого общежития ДИСКа: «Это была суровая и прекрасная зима 20–21 года. Последняя страдная зима Советской России, и я жалею о ней, вспоминаю о ней с нежностью. Я любил этот Невский, пустой и черный, как бочка, оживляемый только глазастыми автомобилями и редкими, редкими прохожими, взятыми на учет ночной пустыней. Тогда у Петербурга оставалась одна голова, одни нервы».