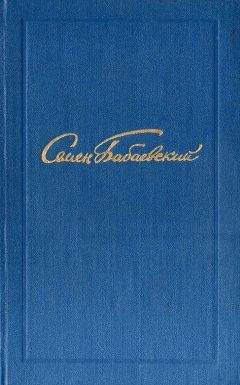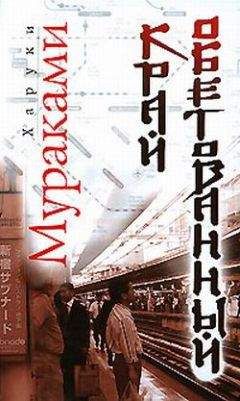Семен Бабаевский - Родимый край
— Ну, что, Леня, запечатлел мою родительницу? — спросил Антон, притормаживая и не отрывая глаз от крутого изгиба дороги,
— Не сумел…
— Как это не сумел?
— А вот так… Есть в этой с виду простой телятнице что-то для меня неведомое, новое, такое, с чем я встретился впервые и что разгадать не успел… Не хватило времени!
— Моя мамаша, верно, в своем роде оригинал, — согласился Антон. — Такие в наше время переводятся, с каждым годом их становится все меньше и меньше. Так что нарисовать бы ее для благодарных потомков надо непременно… Да и что тут трудного? Пожилая женщина-колхозница, каких на Кубани много, и лицо у нее обычное, ничем не приметное…,
— Неудача моя, Антон, как я ее понимаю, не в том, рисовал я обычное лицо или необычное. — Леонид закурил, молчал, думал.
— А тут еще дернуло меня спросить об ее отце…
— Вот о дедушке Илье ты заговорил зря, — сказал Антон, улыбаясь. — Еще недоставало того, чтобы мою мать назвал кулацкой дочкой, а меня — кулацким внуком…
— Не говори, глупостей! — обиделся Леонид. — Слушай, Антон! А не пожить ли мне на хуторе?
— Что тебе это даст? Мать ты видел, беседовал… Чего еще?
— Увидеть и побеседовать мало…
— Жизнь на хуторе однообразна, я ее знаю. Утром мать спешит на ферму. Днем она тоже на ферме или управляется по дому. Вечером снова на ферме. И так каждый день. — Антон с сожалеющей улыбкой взглянул на друга. — Да и что тебе, собственно, непонятно? Что?
— Многое, Антон… Ну, хотя бы бескорыстие, трудолюбие.
— В наши дни и бескорыстие и трудолюбие не редкость. И моя мать тут не исключение.
— Суть, Антон, не в исключительности, нет!
— Тогда в чем же?
— В поразительном неравенстве, если хочешь знать! — запальчиво ответил Леонид. — Почему вот такие бескорыстные труженицы, какой является твоя мать, живут в несравнимо худших материальных и культурных условиях, нежели иная бездельница или бездельник? Поставь рядом с Евдокией Ильиничной какую-либо нашу, городскую барыньку, живущую в роскоши и не знающую, почем фунт лиха, и сравни, так, ради любопытства. Что увидишь?
— Это уже песня, как говорят, из другой оперы.
— Нет, из той самой… У тех, кто ни на грош не приумножил богатства государства, претензии к государству такие, что диву даешься, — зло говорил Леонид. — Иной шалопай живет на всем готовом. Советская власть дала ему и образование, и удобную квартиру, а сколько у такого бездельника хандры? На заграницу поглядывает — и то ему у нас не так, и это ему не по душе, и Советскую власть поругивает, как самый отъявленный прохвост. А какие претензии у твоей матери? Никаких, Она всем довольна и счастлива.
— Вижу, мать тебя очаровала!
— И очаровала и удивила,
— И это помешало тебе написать портрет?
— Помешало и помогло… — Леонид всем корпусом, резко повернулся к Антону, — В характере твоей матери и есть черты человека будущего, и показать на полотне…
— А ты присмотрись к людям помоложе, — перебил Антон, любуясь сиянием далеких хребтов. — Ну, хотя бы к молодым дояркам. Моя мать доила коров вручную, а те, что пришли ей на смену, овладели доильными «ёлочками». Или взгляни на моего младшего брата. Илья один управляется на ста гектарах посева — нешуточное дело! Так что люди будущего — механизаторы, приверженцы техники, с умом и со смекалкой.
— Почему же рядом с техникой стоят все те же хатенки, какие стояли здесь и до колхозов? — сердито спросил Леонид. — Неужели такие, как твоя мать, как те молодые доярки и брат твой Илья, не заслужили к себе большего внимания? И если та прекрасная жизнь, о которой мы так много говорим, уже где-то рядом, может, вон за теми сияющими хребтами, то как же быть с культурой и бытом деревни?
— Леонид, Леонид, природный ты горожанин, — со смехом сказал Антон. — Не увидел в прискорбненских хатах калориферов, ванны, горячей воды, теплой уборной и уже расстроился. В Трактовой построили Щуровую улицу. И что? Не желают хуторяне покидать насиженные места. Об этом ты подумал?
— Но как же быть с той жизнью, что сияет за хребтами? — не сдавался Леонид. — Или войдем в нее с полуразвалившимися хатенками? Нет, что ты, ни говори, а деревенскую жизнь надо переделывать, перестраивать, подравнивать к городской. От этого нам никуда не уйти. И молодые доярки, и твой брат Илья в деревне хотят жить так, как мы с тобой живем в городе, и они имеют на это право!
— Разве против этого кто возражает? Но только не все вдруг, Леня, — спокойно, с достоинством ответил Антон. — Придет время, Там, в верхах, виднее, когда и что делать…
— А тебе не видно? — с нескрываемой злостью спросил Леонид. — Или уже ослеп? Или шоры натянул на глаза? Архитектор, а рассуждаешь, как…
— Хватит, Леонид! — Антон с улыбкой смотрел на выходившую из ущелья дорогу. — А то мы, чего доброго, еще поругаемся. Посмотри, какая красота! Ай-ай! Сколько воды, какое зеркалище полыхает под солнцем!
— Что это? — удивился Леонид.
— Кубань!
— Брось шутки… Это же море!
— Была Кубань, а стало море. — Антон повернулся к заднему сиденью. — Эй! Сонное царство! Проспите красоту-то какую! Открывайте глаза и смотрите!
Дорога спускалась в долину, горы, холмы раздвигались, расходились. Взору открылась, искрясь и сияя, водная гладь, и такая широченная, что вобрала в себя все солнце. Казалось невероятным, что в долине, где испокон веков бурлила Кубань, собралось столько воды. Плотина, серая, как гранит, обтянутая проволокой, словно древний воин кольчугой, намертво пересекла русло. Не понимая, что это за преграда встала на ее пути, Кубань пенилась, злилась, разливаясь так широко и так привольно, что невысокие холмы утонули и пропали, а горы вокруг сделались ниже. Они смотрели в воду, как в зеркало, удивлялись и не могли насмотреться. Иная вершина-красавица в зеленом карагачевом платье уже с утра начинала прихорашиваться, думая все о том, как же хорошо ей теперь жить на свете: можно с зари и до зари любоваться собой. Какой-либо неказистый утес и тот перед зеркалом выпрямился, гордо поднял голову: тоже радовался и любовался собой. И лишь одна гора Очкурка тосковала. Да и было из-за чего. Совсем же недавно одним своим грозным видом Очкурка пугала прохожих. Она и называлась Очкуркой потому, что еще давным-давно, когда поселились тут первые казаки, у одного пугливого казачишки, взглянувшего на скалу, от страха лопнул очкур на шароварах… В самом деле, грозный вид имела Очкурка. Тянулась к небу отвесная скала, и все, кто проходил или проезжал, боязливо поднимали головы, покорно снимали картузы, шапки и думали: «Э, брат, видно, нет такой силы на земле, чтобы она могла унизить эту скалу!..» А ведь нашлась сила, нашлась. Припала Очкурка к земле, забрела по пояс в море, и волны-барашки плескались у ее некогда гордой груди. С горечью Очкурка смотрела на себя, на свое унижение.
Море в горах было молодое, несмелое, тихое. Его волны слегка пенились гребешками и целовали гальку. По берегу росли высокие альпийские травы и цвели маки. Свернув с асфальта, «Волга» примяла маки, оставила в траве след. Передние колеса коснулись воды, наверное, хотели узнать, какая она на вкус. Из машины вывалилась шумная компания. Юрка и Катя, никогда не видевшие столько цветов, погнались за пламеневшими в траве маками. Леонид засучил штанины, забрел по колена и умывался. Надя и Клава пошли за кусты, сняли там платья: решили убедиться, пригодно ли новое море для купания. Антон загрустил и не знал почему. То ли потому, что неожиданно увидел укрощение Кубани, то ли причиной невеселого настроения был разговор с Леонидом.
Прошел по берегу, выбрал торчавший из воды камень, похожий на бычью спину. Стоял на этой спине, щурился, смотрел и не верил глазам своим. Непокорная, своенравная река, сколько веков бурлившая в скалистых берегах, вдруг остановилась и приутихла. Откуда это у нее такое смирение и такой покой? Поднялась, затопила долину, оставила старое русло и повернула на Прикаспийскую низменность, чтобы спасти умирающую без воды речку Калаус. И зачем нужна Кубани Прикаспийская низменность и эта речка Калаус? Разве тут, в горах, ей плохо жилось? Текла бы себе спокойно к далекому Азовскому морю. Или ей мало одного Егорлыка и Невинномысского канала? Так подавай ей еще и Калаус, речку степную, безводную…
Думал Антон и не мог понять. Или сердце у Кубани такое любвеобильное, щедрое, доброе — не может без того, чтобы не выручить из беды какую-нибудь степную речку? Или пришла пора, и умные люди, явившись на ее берега, сказали: «Вот что, красавица, погуляла в горах, и хватит! Поворачивай на Каспий, там давненько поджидают тебя чабаны и гуртоправы…» Эх, Кубань, Кубань! Край родимый, сторона речная, привольная! Помню тебя, с твоими станицами и хуторами, с твоими буйными садами, когда ветви, кланяясь тебе, роняют красно-бокие яблоки, и они плывут, плывут, краснея и подпрыгивая на бурунах. На что ни взгляни, о чем ни подумай, и уже роятся мысли и встают перед глазами картины, люди, словно бы виденные только вчера… Прошумели, как ветры, годы, и твое прошлое смешалось с настоящим, растворилось в нем, и казачья старина-стари-нушка сохранилась лишь в песнях, что звенели в станицах тихими вечерами. Не узнать казачьи поселения, разрослись и обзавелись то заводом, сахарным или консервным, то парком на площади, где в праздничные вечера играет самодеятельный духовой оркестр, то Домом культуры и библиотекой, то фонарями и тротуарами на улицах. Посмотри на иную станицу — не станица, а город в степи! Щедра Кубань дарами земли, а еще более щедра людьми. Куда ни заявись, в какое отдаленное местечко ни загляни, и всюду встретишь такие удивительные характеры, таких старательных да прилежных в труде молодцов, что диву даешься, откуда они появились на кубанской земле! И ничего, что не встретишь ни всадника, гарцующего на коне, ни казачьего бешмета со строчкой пуговиц на груди, ни кинжала на поясе в ножнах чеканного серебра. И ничего, что лишь изредка попадаются кубанки с малиновым верхом, надвинутые на жесткие брови, или синие и красные башлыки, птицами взлетающие за плечами, — все это отживает, уходит от нас. Зато всюду есть свои механизаторы в спецовках, люди, влюбленные в машины, свои знатные животноводы, свои химики, свои кукурузоводы и свекловоды. И всегда встреча с людьми новыми, незнакомыми навевает воспоминания, и мысленно снова видится далекое прошлое. Тут и парубоцкие вечера, и песни под двухрядку, и девушка Таисия, с туго заплетенной косой до колен, спускается к реке с коромыслом на плечах и боится взглянуть на хуторских парней. Тут и лихие скачки на коне без седла, и ночное на острове, и огненные столбы от костров потрескивают, полыхают до утра. Тут и отблеск рассвета на умытой росой листве, и юношеский сон слаще меда. Тут и кочубеевская конница, заночевавшая на хуторе, и орудийные залпы с Казачьей горы, и, убитый, застрявший на перекате оседланный конь. Вспоминаются и кубанские весны памятных тридцатых годов, и путиловский трактор, что несмело входил в увитую флажками и цветами высоченную арку на краю хутора. Вспоминаются и первая изба-читальня с горсткой книг, и комсомольская ячейка из трех пареньков, и хлебопекарня коммуны, и сверкающий экран кинопередвижки посреди темной хуторской улицы. Были и первые колхозные борозды, и голод, и кулацкое восстание в Эльбрус-ском ущелье, и выстрелы из-за плетня. Были и плач и слезы тех, кого сажали на брички и увозили далеко-далеко, разлучая с родной землей, были и разоренные станицы, и испепеленные войной поля..» Все было, все видела Кубань и все испытала и пережила. Как сын твой, склоняю голову, люблю и не перестану любить твои чистые, как слеза, истоки, что бьют из ледниковых расщелин, словно из-под пресса, твои говорливые ручьи и речки, что спешат, бегут из ущелий к твоим берегам. Помню и никогда не забуду твои тихие лиманы, шорох камыша и осоки, всплеск рыбы на утренней зорьке и разноголосую, тягучую лягушачью музыку душным летним вечером. Да и как же можно не любить то, что вошло в жизнь, и как же можно забыть то, что прильнуло к сердцу и теперь, издали и с годами, становится еще милее и роднее!..