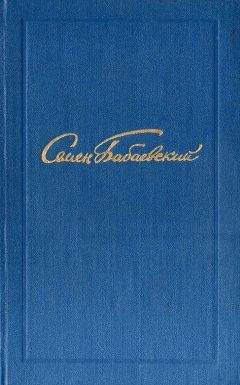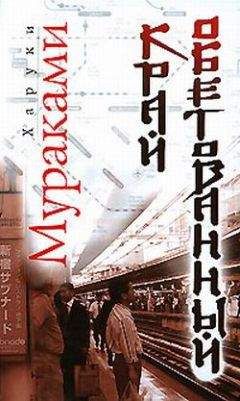Семен Бабаевский - Родимый край
Глава 23
Колеса шуршали, давили кочковатую землю. Набирая скорость, «Волга» бросила прощальный взгляд на хаты, прошила светом фар темную зелень и покинула Прискорбный. Были гости, и уже не стало гостей — умчались. Возле своей хатенки осиротело стояли Евдокия Ильинична и Елизавета, грустно смотрели вслед скрывшейся в темноте машине. Мать все еще не решалась опустить прощально поднятую руку и смахнуть набежавшую слезу. «И чего это сынок укатил в такую рань? — думала она, пригорюнившись. — Или на что обиделся, или с Онихримчуковым поругался? Или все спешит, все торопится — некогда, бедняге? Поднялся ни свет ни заря и улетел, как птица. И все потому, что придумали люди себе на беду быстроходные колеса. Как же тут можно не спешить и не торопиться?.. И Илюша не пришел попрощаться с братом! Со Стешей ноченьку коротает. Что ему родной брат, коли Стеша стала ближе и роднее!..» Эх, мамо, мамо, насчет быстрых колес и людской непоседливости, возможно, вы и правы. Но вы же не знаете, да и как вы могли знать, что в этот предрассветный час Илья и Стеша прятались в лесу за Кубанью, и им было не до проводов Антона!
Над горами начинало светать. Бледнело небо, гасли звезды. Побитая грузовиками дорога вошла в Трактовую. Вот и Щуровая улица. Крылечки, пустые оконные проемы с уко-ризной смотрели на Антона. И Антон взглянул на них невесело, простился взглядом и отвернулся. Вспомнил свой разговор с Онихримчуковым. Онихримчуков смеялся и не то шутя, не то серьезно говорил: «Если прискорбненцы не пожелают переселиться в новые дома добровольно, то их переселят насильно». Ну и пусть Онихримчуков печалится. Ему-то лучше знать, что и как нужно делать. Только силой переселять нельзя. Известно, насильно мил не будешь. Но как быть? Весь хутор в аварийном состоянии…Дорога уже вышла за станицу и свернула на мост. По ту сторону реки фары озарили красную, как пламя, скалу, и машина пропала в узком и темном Кубанском ущелье.
Ехали молча. Прислушивались к могучему, идущему из земли голосу Кубани. Юрка и Катя спали, прильнув к матери. Надя и Клава с опаской поглядывали на отвесные скалы, снизу темные, а сверху укрытые курчавой зеленью. Леонид сидел рядом с Антоном, управлявшим машиной, и думал о Евдокии Ильиничне, видел ее, стоявшую возле своей хаты. Ему было и обидно и досадно оттого, что он не сумел сделать карандашные наброски портрета телятницы. Пробовал, старался, а ничего путного так и не получилось. Вспомнил, как Евдокия Ильинична, управившись на ферме, снова принарядилась, нацепила награды и несмело подошла к нему. Присела рядом на густую, как ковер, траву и спросила:
— Или раздумал рисовать, Леонид?
— Нет, не раздумал…
— А может, не гожусь для картины? Так ты скажи, не обижусь. Ить я уже старуха, собой неказистая… Рисуй молодых да пригожих.
— Зачем же рисовать молодых да пригожих? — нарочито весело спросил Леонид. — Они еще не заслужили.
— Э! Не cкажи! — возразила Евдокия Ильинична. — И у нас в станице есть такие бедовые парни и девки, что матерям и батькам за ними не угнаться. Поглядел бы, какие у нас разбитные молодайки на ферме. Ночуют в общежитии. Носят белые халатики, головы в ку-черях, а коров доят машинами, не то что, бывало, мы… Так что люди подрастают и образованные, и культурные, и на язык способные, не переговоришь…
— Зато у пожилых за плечами целая жизнь, опыт, — заметил Леонид.
— Жизнь, верно, прожита… Тогда отчего меня не рисуешь?
— Признаться, мамаша, что-то у меня не получается.
— Аль разучился?
— Евдокия Ильинична, расскажите о себе, о своей жизни, — не отвечая, попросил Леонид.
— Это зачем же понадобилась тебе моя жизнь?
— Прост© так, для знакомства… Буду знать…
— Чего о себе толковать? — с грустью в голосе спросила Евдокия Ильинична. — Известно, жизнь прожить — не поле перейти. За многие годочки и натужишься, и наплачешься, и вдоволь намаешься. Всякое, сынок, бывало: и хорошее и плохое/ Сказать, жила, как все люди…
— И жизнью своей довольны? Такой вопрос ее смутил и озадачил.
— А чего мне быть недовольной?. — Евдокия Ильинична концом косынки вытерла заслезившиеся глаза. — И детей взрастила, можно сказать, добрые росточки останутся после меня, да и у наших людей я в почете… Чего еще желать?
— Вот вы в прошлом были дочерью богатых родителей, — заговорил Леонид. — Затем вышли замуж…
— Невелика важность, — перебила Евдокия Ильинична. — Все девки замуж выходят… Что тут такого?
Расспросы художника не радовали Евдокию Ильиничну. Она отвечала нехотя, скупо, как обычно отвечают на анкетные вопросы, и нужный Леониду разговор так и не завязывался. По ее грустным глазам, по тому, как она, не слушая Леонида и думая о чем-то своем, тоскливо смотрела за реку, нетрудно было догадаться, что Евдокии Ильиничне вопросы не нравились, что она, тяжело вздыхая, не понимала или не хотела понимать, что же у нее хотели узнать. И к чему Леонид затеял этот разговор? Если хотел рисовать, то и рисовал бы молча. Она и принарядилась, и повесила на грудь награды, и пришла к нему, оставив телят, не для того, чтобы вести с ним никому не нужную беседу.
Не отступая от своих намерений, Леонид осторожно начал расспрашивать о ее отце, о братьях.
— Евдокия Ильинична, поясните мне, человеку городскому, — сказал Леонид, приятно улыбаясь. — Как могло случиться, что дочка богатого казака, участника кулацкого восстания стала и знатной колхозницей, и героиней труда? Сами вы задумывались над этим?
— Некогда о пустяках думать, — сердито ответила она. — Есть думки и поважнее.
— Но все же? Ведь это же сам по себе факт весьма примечательный, — продолжал Леонид. — И будем откровенны… В душе у вас, вот тут, в сердце, ничего такого не осталось?
— Чего такого? — удивилась Евдокия Ильинична.
— Ну, того, что было у отца?
— И ты об этом. — Она вздохнула. — Семена Маслюкова, нашего учителя знаешь? Не знаешь? Умный человек Семен, а тоже этим же интересовался. Кто, да что, да как? А что тут такого неясного? Старое, что было, давно умерло, и все дорожки к нему позаросли бурьяном. И ты рисуй меня и не удивляйся. И про родителей не спрашивай. Покойный мой батя жил по-своему, а я живу по-своему. Вот и весь мой сказ… Пойду к телятам.
И ушла. Леонид видел ее энергичную, торопливую походку, гордо поднятую голову в белом платочке и мысленно ругал себя. «И зачем нужно было мне, — думал он, — расспрашивать о том, что огорчило старую женщину и что с такой болью отозвалось в ее сердце? Как она сказала? Ах да… «Что тут такого неясного?» Ей-то все ясно, а вот посмотришь со стороны…»
И теперь в горах, когда мотор, натужась, преодолевал перевал и поднимал наших путников все выше и выше, Леонид думал о Евдокии Ильиничне и слышал ее. голос: «Старое, что было, давно умерло, и все дорожки к нему позаросли бурьяном…» Почему же она с таким упреком смотрела на Леонида и взгляд ее точно спрашивал: «Ну, чего пристал? Ну, были мои отец и брат в банде и живыми оттуда не вернулись… А я-то тут при чем? В чем же тут моя вина? Неужели ни о чем другом нельзя спросить…» Теперь, глядя на открывшуюся взору красивую долину, Леонид понимал, что не нужно было ни о чем спрашивать Евдокию Ильиничну, не надо было трогать то, что давно уже умерло, «…а я живу по-своему…» И хотя она раньше говорила ему, что «жила, как все люди», Леонид понимал, что жила она именно по-своему, что о таких, как она, говорят: живет не чужими подсказками, а своим умом… Так, может быть, в этом «по-своему» и была та особенная черта в характере этой женщины, увидеть и понять которую художнику было трудно, а еще труднее — перенести ее на полотно и показать другим…
Пока Леонид мысленно находился в хуторе и рассуждал о Евдокии Ильиничне, в горах уже заполыхал день, и небо, чистое, синее, поднялось высоким шатром. Солнце выглядывало из-за далекой, стоявшей в глубине гор вершины и то озаряло зеленую стену сосен и белые зубцы хребта, то заливало жарким светом вдруг открывшуюся взору долину. Дорога укачивала, горный пейзаж убаюкивал, и Надя и Клава, вволю налюбовавшись горами, сидя задремали.
— Ну, что, Леня, запечатлел мою родительницу? — спросил Антон, притормаживая и не отрывая глаз от крутого изгиба дороги,
— Не сумел…
— Как это не сумел?
— А вот так… Есть в этой с виду простой телятнице что-то для меня неведомое, новое, такое, с чем я встретился впервые и что разгадать не успел… Не хватило времени!
— Моя мамаша, верно, в своем роде оригинал, — согласился Антон. — Такие в наше время переводятся, с каждым годом их становится все меньше и меньше. Так что нарисовать бы ее для благодарных потомков надо непременно… Да и что тут трудного? Пожилая женщина-колхозница, каких на Кубани много, и лицо у нее обычное, ничем не приметное…,
— Неудача моя, Антон, как я ее понимаю, не в том, рисовал я обычное лицо или необычное. — Леонид закурил, молчал, думал.