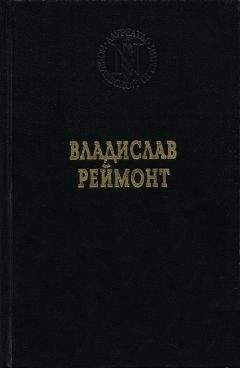Василий Земляк - Родная сторона
— Таким, как ты, разумеется, фига достанется, — сказал он Фросе.
— Ой, какой работящий! Ты, голубчик, валяй на болото. Хватит тебе культуру наводить, — поднялся из-за стола Товкач. Гордей Гордеевич тоже подбросил острую шуточку, а Хома выбежал из вагончика и закружился перед дядей Ваней с балалайкой. Играл и пританцовывал:
Дiд рудий, баба руда,
I я рудий — руду взяв,
Бо рудую сподобав!
Народилось в них маленьке,
I те теж було руденьке.
Xi-xi-xi, ха-ха-ха!..
Дядя Ваня выждал, пока Хома успокоится, и, словно ничего не случилось, возобновил беседу. Но тетя Фрося не хотела угомониться. Ею руководили чисто финансовые соображения: пусть бы брил себе, все-таки в семейную кассу копеечка, так нет же, ишь, слоняется! А какая польза от этой агитации для дому?
— Кому вы верите? — обратилась она к людям. — Нашли кому верить! Моему Ивану!
— Он же первым агитатором в колхозе считается.
— Так это для вас. А для меня он не авторитет. — И она шутя показала Ивану на дорогу к селу.
После этого подвыпивший Хома ударил на балалайке марш, а дядя Ваня завизжал не своим голосом:
— Ага, вы против агитации! Так и доложу в райкоме. Пусть райком разбирается, кто вы такие и каким духом пропитаны!
Не раздумывая, дядя Ваня вскочил на велосипед и укатил. Над общественной кухней нависла гроза, и тетя Фрося почувствовала это раньше других. Кинулась догонять своего обиженного муженька: «Ваня, Ванечка!»
Но дядя Ваня даже не оглянулся. Вернувшись в стан, тетя Фрося подсела к Товкачу:
— Ой, Филимон! Ведь это выходит, что я против агитации… Ой, горе мое, что ж я натворила? Выручай, Филимон, а то я и тебя впутаю…
— Ну, ну, всполошилась, — успокаивал ее Товкач. — Нечего шум поднимать. Пусть не плетет небылиц. Я точно высчитал, что дадут и чего не дадут на трудодень. Чего не будет, того не выдадут. А не будет многого. Я, Фрося, не зря двадцать лет был хозяином. Мы спросим Бурчака, куда наше добро подевалось. Твоими обедами ему не удастся людей задобрить. Нет!.. Так что бояться нечего…
* * *В тот же день Товкач встретился на колхозном дворе с Романом Колесницей.
— Давайте по хозяйству походим, — предложил Товкач. — Поглядим, как без нас хозяйничают.
— Это мы можем.
И пошли по хозяйству. Товкач в синей, засаленной на животе спецовке, в облезлой шляпе, а Роман Колесница все в тех же сапогах, покрытых пылью, армейских галифе, а на рыжей голове старая-престарая кожаная фуражка, которую на селе помнили еще с давних времен. Ходили и посмеивались над тем, что сделано без них. Пришли на новый кирпичный завод, небольшой, кустарный, заглянули в печь.
— Разве это печь? Разве в такой печи кирпич выжгешь? Да тут и кизяк не высохнет.
— Эй, хозяева, слыхал я или мне померещилось, что вы над моей печью смеетесь? — откликнулся старый Шепетун. — Пойдите да поглядите, какую Гордей Гордеевич из этого кирпича домину выложил. Тогда скажете. Да у самого графа я такого кирпича не выжигал. То для графа, а это для нас. Куда тому кирпичу до нашего! Я делал, я знаю…
Товкач поднял кирпич, ударил об землю — кирпич не разбился.
— Ну? — спросил Шепетун. — Хвалюсь я или не хвалюсь?
Товкач смерил старика тяжелым взглядом.
— При мне сидел на пайках, слабосильным прикидывался, а сейчас кирпич обжигает. Это такие люди, Роман! Не верь им, не верь! Нет в них никакой немощи.
— Каждому человеку, Филимон, надо место найти, — сказал Шепетун. — Ты меня двадцать лет сторожем держал, а я, Филимон, сейчас кирпич обжигаю! — Он нагнулся, опираясь на палку, взял комок замешенной глины, помял на ладони и крикнул женщинам: — Круто замешено. Еще немного песку подсыпьте!
— Пойдем, Филимон, — сказал Роман, хмелея возле горячей печи. — Пойдем птицу посмотрим.
Пошли к птицам. В новом птичнике встретились с Порошей.
— Кого инспектируете, Филимон Иванович? — чуть заикаясь, спросил Пороша.
— Смотри, голубчик, какой для тебя дворец поставили.
— Это не для меня. Мы тут индюшачью ферму поселим.
— Ну, Роман, это по-хозяйски — такой дворец для индюков ставить? — Товкач показал на Порошу: — Парень без хаты, парень хочет жениться, так лучше ему хату поставить. А они, видишь, на чем свихнулись?
— По моему проекту, — заморгал Пороша.
— Уже и ты проекты выдумываешь? — язвительно спросил Товкач.
— Выдумываю, Филимон Иванович.
— Ну-ну, живите по-индюшачьи. Неситесь. А мы с Романом посмотрим, какие будут выливки… Пошли, Роман.
Ходили они вдвоем по селу и ко всему придирались: и то не так и это не так. Все не по-ихнему.
— Вот, Роман, какие дела.
— Да… — почесывал затылок Колесница.
Вышли из села и остановились на распутье.
— Что ж, давай действовать.
— Здесь, посреди поля, Товкач еще раз изложил Роману все подробности своего замысла — как сбросить Бурчака с поста председателя.
— А может, не надо? — заколебался Роман. — Это, как говорится, политика.
— Голубчик, не дрейфь. Все само собой сделается. Само, без политики. Для большей верности Шайба подошлет комиссию. Сделаем тебя председателем, а я согласен к тебе в заместители, — пустился Товкач на хитрость.
— Нет, Филимон, ты грамотнее, так ты и будешь председателем, а я — в заместители…
Они разошлись, каждый думая о том, что только он достоин быть председателем на три села.
* * *Вот уже несколько дней Муров живет в Замысловичах.
Как-то утром, встретив тетю Фросю, спросил:
— Чем сегодня людей кормите?
— Посмотрю, что Калитка пожалует. Когда вы здесь, он не так упирается. Хочу у него пару индюков вырвать. Пороша, говорят, план выполнил, значит Калитка выпишет. Приходите и вы на индюшатину. Районный председатель у меня обедали, говорят, что я все городские чайные переплюнула. Так что пожалуйте!
Тетя Фрося пришла к Калитке взволнованная, напуганная, несколько раз молча садилась и вставала, пока тот сам не спросил, что случилось.
— Вам и не снилось, кто сегодня у меня обедает.
Он уколол ее в самое сердце:
— Наверно, Максим Шайба приехал из области?
— И не Шайба и не Максим. Сам секретарь райкома ко мне жалует. Так что выписывайте… — Тетя Фрося насчитала столько, что у Калитки голова пошла кругом.
— Все выписал, а индюков отказал.
— Пусть еще подрастут до осени.
Тетя Фрося пристыдила его:
— Эх вы, не умеете показать, какая у вас птицеферма!
— Ага! — дошло до Калитки. — Для популяризации птицефермы? Ну, бог с тобой. Для популяризации выпишу.
Тетя Фрося, сияющая, возвращалась в стан с полной подводой продуктов, напевая свое любимое «Полюшко-поле». Приехав, согнала ворону со своей фанерной кухни: «Кыш, Шайба!» — и принялась за индюков — птица крупная, натрудишься, пока ощиплешь да выпотрошишь ее. И еще забота: лучший кусок надо незаметно припрятать для своего муженька-агитатора, который никак не может простить тете Фросе ее политической близорукости. Все это не сделаешь мигом. Между тем люди уже сходятся.
— Эй, хозяева, где ваш обед? — послышался сухой, скрипучий голос Гордея Гордеевича.
— Варится! — заметалась тетя Фрося, поправляя белую поварскую косынку. — Первосортная индюшатина! С боем вырвала у Калитки. Ну и человек! Скупого Иосифа перещеголял.
Евсей Мизинец привел на обед веселых румяных доярок, а люди с болота, где все еще продолжали рыть сеть мелких канав, пришли без Товкача. Последними появились Муров и Бурчак. Они ходили смотреть опытное поле в Липниках.
Мурову этот мирный многолюдный стан почему-то напоминал дни войны. Словно это привал, и после него надо идти дальше. Молодо шелестел листвой дуб-великан. Одни умывались на прибрежных камнях, другие под дубками курили, но вскоре все подсели поближе к Мурову, и незаметно, слово за слово, завязалась беседа. Карп Сила сидел против Мурова на зеленой травке и прятал за спину соседа свои огромные стоптанные сапоги.
— Я хотел… того… сказать, что когда присылают сапоги, так чтоб не малого размера. Потому что все обулись, а я босой хожу, — показал он на свои сапоги.
— А какой у вас номер?
— Я и сам не знаю своего номера. Одна трагедия.
— Какая же это трагедия? — улыбнулся Муров. — Это комедия!
— Вам комедия, а мне, товарищ секретарь, натуральная трагедия.
— А все-таки какой номер?
— Пишите сорок шестой, не ошибетесь.
— Ну, у кого еще какая трагедия?
— У меня, — поднялся Гордей Гордеевич. — Это не моя, а наша трагедия. Я два века не проживу, только один.
Евсей Мизинец сбил на затылок шапку.
— Ого, чего захотел! Тут бы один век дожить сполна.
— Мастеровые люди совсем переводятся, — продолжал Гордей Гордеевич. — Посмотрите на нас, — показал он на своих однокашников. — Все старики. И руки не те и сила не та. А где же мастеровая молодежь? Кто будет строить после нас? По нашей части ни один не учится. Кто будет работать с кельмой? Кто дворцы поставит в селах вместо старых хат?