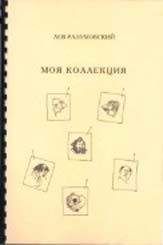Регина Эзера - Колодец
— Да пошел он знаешь куда… — буркнул Эйдис, сразу вспомнив происшествие, и проглотил влагу точно ягодку. — Налетел прямо как ястреб.
— А что дама с радио? '
— Зоотехник и Апинит повели ее новый хлев смотреть, и тут Звагул… И понятия-то у меня неверные, и такой-то я и сякой. Одно только плохое вижу. Зачем было выбалтывать про Карла и про клеть…
— И правильно! А у тебя язык без костей! — вставила Мария.
— Подумаешь, говорю ему, — не слушая жену, продолжал Эйдис, — ведь это ж, брат, чистая правда. Ведь так оно и было. Поди сам посмотри! А он: неважно, как оно было. Ходит, ходит взад-вперед, как тигр в клетке, и шерстит меня. Так и этак. Наш колхоз, может, прогремел бы на всю республику, а ты все дело рушишь, как… ну это… дир… дивер…
— Диверсант.
— Во-во! Слушал я, слушал. Но когда он стал обзывать меня дир…
— Диверсантом, Эйдис!
— Ну да, диверсантом, душа не стерпела, зло взяло. Вы меня звали, говорю, или я вас? Вы меня заставляли в ихнюю машину говорить или я вас?
— Ох, горе ты мое…
— Ты меня тут расхваливал, говорю, как цыган хромую кобылу, а теперь, значит, мои понятия тебе не по вкусу! — Эйдис в запале повысил голос. — На свои понятия посмотри, а мои не трожь. У меня на дворе вон бидоны, снятое молоко киснет. Чего доброго телят пронесет, а кто отвечать будет? Ты, что ли? — Эйдис вытер пот и со вздохом закончил: — Вот, брат, какие дела.
— Со всеми ты цапаешься, отец, — жалобно проговорила Мария. — Жил бы себе тихо-мирно. Чего тебе не хватает?
— Налей еще, брат, — только и сказал Эйдис.
— Сколько мы натерпелись, Рудольф, из-за его языка! При немцах без малого… после войны снова…
— Глотни лучше, мать!
Выпили еще по чарочке.
— Эх, хорошо! — крякнул Эйдис. — Посмотри там, мать, чего-нибудь поплотнее для закуси.
Пока Мария собирала на стол, Рудольф опять наполнил рюмки.
— Так оно в жизни бывает, — постепенно смягчаясь, рассуждал Эйдис. — Кидает тебя как на волнах. Сколько всего позади, хорошего и плохого! В том же колхозе… И так бывало, что хоть караул кричи — ни скотине, ни людям жрать… Пока-то, пока выкарабкались… А нынче он: «Неважно, что было!» Что было, брат, все важно. Скажи, Руди, ей, ну, барышне этой, не влетит за то, что я наговорил лишнего?
— Они это вырежут.
— Как вырежут?
— Просто, ножницами. Возьмут магнитофонную ленту и кусок выхватят.
— Ну, чудеса! Тогда ладно… тогда хорошо. А остальное ерунда. Главное, чтоб из-за меня другому не досталось. Может, кой-чего и не надо было рассказывать? Все-таки чужой человек.
— Как ты Марию из калоши поил?
Эйдис проглотил смешок.
— Да не я Марию. Мария — Лизавету. Я говорил уж, в Пличах тогда не телят держали, а взрослых коров, и на выгон ходили этой дорогой, через мостик. Гонит их как-то вечером домой Лизавета, и девчонка ее Дзидра лет восьми-девяти ей помогает. Мостик уже ветхий, скрипит, да разве до него было, работы — не знаешь, за что раньше браться. Гоняют стадо туда и обратно, ничего вроде, и так каждый день… Ну, в тот вечер переходят мост все коровы — у скотины тоже своя судьба, — все перешли, значит, а последняя возьми и провались. Да так неладно: ноги еле достают до земли, грязь загребают, шея застряла промеж досок, корова тяжелая, она и повисла. Моя Мария была в саду, слышит: Дзидра орет дурным голосом. Мария туда во весь дух, по дороге башмаки растеряла…
— Любишь ты прикрашивать, отец, — сказала, внося тарелки, Мария.
— Не мешайся, мать! Прибегает, сталбыть, видит — страшное дело. Корова ревет, красная пена изо рта валится. А пастушка лежит у дороги навзничь, не шевелится — кончилась.
— Как — кончилась?
— Постой, Руди, не сбивай ты тоже! Мария: «Не ори ты, Дзидра, как резаная. Лети пулей за Эйдисом. И пусть возьмет пилу и топор!» Я и сам услыхал, брат. Бежим мы с девчонкой во все лопатки. Мария навстречу: «Гляди, гляди-ка, сразу два покойника. И Лизавета кончилась!» А я мигом смекнул — она без памяти просто, и говорю: «Пусть ее полежит Лизавета, давай спасать корову!» А она, милые вы мои, уж и глаза не открывает, хрипит только… Расхватил я пилой две доски — рухнула вниз, как мешок. Летом же, сам знаешь, воды там лягушке до пупа. Плескаю корове на голову, сдавленную шею растираю. Шутка ли! Говорю Марии: «Полей-ка и на Лизавету!» А она — да чем поливать, ни ковшика, ни ведра. На мне калоши были на босу ногу. Сталбыть, калошей. Какая-никакая, хе-хе, а посуда. Очухались обе покойницы. Лизавета открыла глаза, первым делом: «Где корова?» И ну вставать, и ну бежать. Да не тут-то было, слабость после обморока. Тут Мария ее и напоила. Видишь, брат, всяко бывало…
— Ну закусывайте, мужички! — потчевала Мария.
— Пропустим, что ли, еще по одной, а?
— Можно, — согласился Рудольф.
— Не лишняя будет? — обеспокоилась Мария.
— Не бойся, мать, мы с Руди отведем тебя в постель как графиню.
— Ах ты, старый шут! — засмеялась Мария.
— Ну, так давайте на посошок! Руди! Мать!
— Мелешь ты, отец, всякую нелепицу! Дал бы Рудольфу что-нибудь путное рассказать.
— Не люблю я длинные речи, дорогая Мария. Хотя сейчас мода такая. Как соберется хоть бы десяток людей посидеть-поужинать, сразу назначают старшего, тамаду. И он…
— Хе-хе, ты гляди, и выпивать тоже — по команде! — вставил Эйдис.
— …и он без умолку говорит сам и других заставляет говорить. Все боятся есть…
— Что так? — удивилась Мария.
— …потому что в любой момент тамада может дать тебе слово. Только я, например, положил в рот кусок жилистой ветчины, как вдруг: «Об этом хочет сказать Рудольф Сниедзе». И…
— Об чем, Рудольф?
— Обо всем, что тамаде придет в голову. И я побоюсь не только есть, но и пить — ведь надо сказать что-нибудь остроумное.
— Я бы там, брат, хе-хе, всех заговорил! Одно плохо — ни поесть, ни выпить.
— Ну, не так уж чтобы совсем. Ведь и тамада человек, да и сам ты говорил — человек устает не только от работы, но и от разговора. Рано или поздно он вытрет пот со лба и к общей радости успокоится. И тогда, была бы охота, можешь и наесться и напиться.
— Если так, тогда жить можно. У нас тоже, брат, в прошлом году на празднике урожая удумали речи говорить, да ничего не вышло. Мужики, как и водится, тяпнули раньше времени. Службу служить поставили парторга. У него голос как труба иерихонская, и то — куда ж там всех перекричать. Скомандовал только: «По коням!» — отступился. У него же работа какая — рот не закрывает, так хоть в праздник человеку отдохнуть хочется.
После «пятой ноги» (а может быть, и шестой, так как жидкости в пузатой бутылке осталось меньше половины) Мария запела:
На свете жил садовник,
Он вечно грустный был.
Цветы к нему ласкались,
Призывно улыбались,
А он средь них грустил.
Из большого чугуна, в котором кипела картошка для свиней, валил белый пар и стлался по закоптелому, будто лакированному потолку кухни, В коротких бурых пальцах Мария вертела отпитую до половины стопку.
Безрадостно садовник
По садику гулял
И слезы на цветочки,
Листочки, лепесточки
Он горькие ронял… —
пела Мария, а Эйдис, взяв Рудольфа за пуговицу, философствовал:
— Поживешь с мое, брат, сам увидишь — человек входит в разум только годов в шестьдесят. Не смейся! А до того он щенок бессмысленный…
Опять увял цветочек,
Опять несчастный сник.
Он вянет, пропадает,
От жажды погибает,
Хоть нет на нем вины…
— …посмотри хоть бы на наших правителей. Где же еще нужна умная голова, как не там! Поставь у кормила желторотых — все бы давно пошло прахом…
Эйдис отпустил пуговицу и незвучным, хриплым голосом неожиданно подтянул Марии:
А там внизу, в долине,
Струится ручеек,
Испив его однажды,
Никто не знает жажды
Нигде и никогда…[3]
По увядшим Марииным щекам одна за другой скатились две слезы.
— Что вы, Мария?
— Не смотри на меня, старую дуру, — сразу сконфузилась она и, отвернувшись, громко высморкалась. — Такая душевная, красивая песня…
— Ну что ты, мать, — сказал Эйдис.
— Да я ничего… так просто… Слышь, как на дворе шумит!
— Дождь льет.
— Завтра не воскресенье. Пора нам помаленьку кончать.
— Пока и мы не столкнули клеть с фундамента.
Дождь вовсю барабанил в окно.
4
Как в тот день, думает Альвина, как в тот день, когда хоронили Рейниса… Это же надо, застрянет в голове дума, и ничем ее оттуда не выбить. Разве мало лило с тех пор, как Рейнис на кладбище, батюшки-светы, целые реки пролились с неба. Двадцать… да, двадцать три года, шутка ли. Вия успела вырасти. Сама она — состариться. А Рич… Рич…