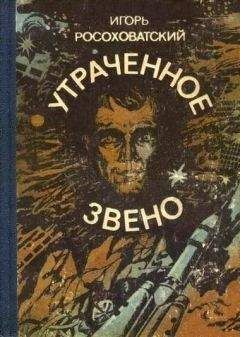Виталий Трубин - Теплое крыльцо
— Что вы все как с цепи сорвались?! Накинулись на меня. Операция! Операция! Была у меня операция — и ни хрена, все без толку!
— Все думают, ты боишься, — спокойно-безжалостно сказал Николай, думая, Серега побледнеет, начнет махать руками, кричать, что все вы волки позорные, а он не трус и вообще никогда, ничего не боялся, даже смерти. Но Серега с мрачной, потаенной улыбкой вдруг согласился:
— Ну что же, они правы, мне действительно страшно.
Как только он узнал, что с операцией решено, как только подержал в руках белый листик бумаги, на котором был отпечатан строгий, вежливо-холодный вызов в Москву, к нему снова вернулся ужас прежних, старательно забытых им дней. Сразу потеряв способность уснуть, Сергей опять видел себя распятым на огромном, жестком щите и ему снова хотелось кричать: «Развяжите меня! Развяжите меня!» Его голову, сразу после травмы, в неподвижности держал, закрепленный на черепе двумя клеммами, пять сантиметров ниже макушки, девятикилограммовый груз. Неподвижность была абсолютной, жили только мозг и глаза. И оглушительная бессонница… Ночь, на потолке мертвенно-бледный свет уличных фонарей и кто-то неизвестный, но подлый безжалостно шепчет в уши: «Ты — труп. Ты — труп». «Вот и кончилась жизнь, — думал тогда Сергей. — Я — говорящая голова, и ничего больше». Потеря сознания от невыносимых болей служила спасением. Через шесть дней спина и поясница его стали краснеть — пошли пролежни. Тело начинало заживо гнить, но этот процесс в тканях, благодаря материнским заботам, остановился. Сергей часто думал, какой же он невезучий. Историю его изучали на разных уровнях и самые ответственные работники спорткомитета, и тренеры не могли вспомнить, чтобы с хорошо подготовленным спортсменом-самбистом случалась такая трагическая нелепица.
Тело Сергея, в секунду ставшее камнем, никак не могло привыкнуть к новому своему состоянию. После травмы главной силой Сергея стала душа, но вот и она надломилась.
IIIДосаафовский самолет, пока друзья сидели на берегу, спустился пониже и на высоте трех тысяч метров крутил мертвые петли. Когда он показал в воздухе боевой разворот, Николай твердо поглядел на Сергея и сказал:
— Я не буду тебя уговаривать, просто посидим у воды.
— Вот и ладно. Я знаю — тебя мать просила. — Сергей смотрел в землю.
— Что ты все — мать да мать! Дома при мне ни разу ее мамой не назвал!
— Ты плохо не думай. — Сергей оскорбленно насупился. — Она самый дорогой мне человек. А, впрочем, ты прав. Земля из-под ног уходит. Обиженный я, а на кого обижаться? Судьба.
— Но уж не на мать.
— Досталось ей! Отец нас бросил, когда мне полтора года было, и сразу на другой женился. Я иногда вижу его с балкона.
— Ты, Серега, самбист.
— Какой я самбист? Не смейся!
— У тебя еще три досаафовских прыжка.
— Ну и что?
— А то… Был сильный страх перед первым прыжком?
— Конечно.
— Ну и что?
— Был да сплыл. От счастья, что парашют раскрылся, пел в воздухе.
— А что пел?
— Лучше нету войск на свете, чем десантные войска.
Николай рассмеялся, довольный, обнял товарища:
— Эх, Серега, друг дорогой, поедешь в Москву, прооперирует тебя светило, вернешься домой без палочки, на своих двоих. Оденешь самбистскую курточку и трахнешь меня подхватом.
Сергей молчал. «А в Москву я не поеду, — решительно думал. — Лечить позвоночник — самое сложное дело!»
Когда с головы Сергея сняли клеммы, к которым крепился девятикилограммовый, выправляющий позвоночник, груз, он испытал ужасную боль; с тех пор он особенно боялся боли, и все же это было не главное, чего он боялся.
Исподволь, потихоньку, через год после травмы, к нему пришло пусть не полное, но облегчение. Сначала он чувствовал пальцы ног, оживление поднималось выше, вот и пальцы рук начали шевелиться, самое дикое счастье он испытал, когда самостоятельно повернулся на левый бок. Когда же он прошел по комнате, раскачиваясь, как тополь во время грозы, и сам включил свет, он понял — это предел! Все эти маленькие, но в то же время чудесно большие радости были достигнуты им после трехлетних, ежедневных, многочасовых тренировок. Друзья-динамовцы его не оставили: навещали, помогли сделать тренировочные снаряды, брали с собой на загородные сборы — в лес, на реку Ик, — но Сергей все равно чувствовал ближе и ближе подступающее одиночество. Ребята шли вперед, росли, становясь мастерами, выигрывали большие соревнования и отдалялись. Взрослели просто-напросто. У каждого определилась своя дорога — счастливая, нелегкая или коварная. Надо было быть смелым и жестким работником, чтобы стать самым сильным и первым.
Однажды на сборах в середине августа ребята после ужина сидели у теннисного стола и трепались о спортивных перспективах на будущий год. Сергей, поужинав как всегда самый последний, шел к ним, радостно улыбаясь: он любил этот час отдыха, когда ребята становились самими собой, то умно рассудительными, как пожившие деревенские мужики, то наивно смешливыми, не потерявшими способности удивляться детьми. Самбисты из сборной сидели спиной к Сергею, и только один, когда-то слабый, проигрывавший ему, теперь стабильно идущий наверх спортсмен, увидел, как, запнувшись о горбатый сосновый корень, Сергей упал в траву и не мог встать. Опершись на кулаки, он пытался приподнять непослушное, слабое тело, но не получалось, и, дрожа головой, Сергей бултыхался в траве, стыдясь попросить о помощи, а тот, сидящий на теннисном столе лицом к нему парень, спокойно глядел на это: ему давно и порядком надоело возиться с калекой. Когда Николай Ефремович, тренер сборной, как будто что-то почувствовав, спросил: «А где Борисов?» — парень этот, буднично улыбаясь, сказал: «Да вон, в кустах отжимается». И все двенадцать самбистов, оглянувшись на Сергея, захохотали. Слыша этот здоровый смех, он хотел умереть от стыда и ненависти к самому себе. По раздраженному, недовольному взмаху тренерской руки все двенадцать мускулисто-красивых апостолов кинулись к поверженному товарищу, подняли его с тяжелой земли, как пушинку, посадили на скамью рядом с виновато глядящим на него тренером. С той минуты Сергей стал отдаляться от сотоварищей. Время его тренировок катастрофически сократилось. Он стал чаще смотреть телевизор: оказалось, что мир огромен. Он полюбил окно, часами сидел на балконе в плетеном высоком кресле.
«Снова полная неподвижность?! Сейчас я хоть как-то передвигаюсь. А вдруг там не повезет: рука у хирурга дрогнет или еще что… Не-ет! Снова стать говорящей куклой, пялить глаза в потолок? Нет! Я помню это счастье, когда сам повернулся на левый бок! Я люблю небо, люблю осенний лес, я даже могу километр пройти по нему, могу сорвать березовый лист, я даже купаться могу, ну не в прямом смысле: могу зайти в воду и, чувствуя, как легко в ней становится, могу прыгать в воде и хлопать руками, как подбитая птица крыльями. После двух с половиной месяцев лежки на вытяжке я не дам себя окончательно искалечить! Боже, какая была боль, когда сняли грузы! Меня свернуло в крючок!»
…Стихало над озером полдневное марево. Чайки, разомлев от жары, перестали летать. Только полевой лунь вел неустанный поиск добычи, мотаясь над озерными берегами.
— Наши самбисты, говорят, на Кубке хорошо выступили? — спросил Сергей. — Помнишь, когда мы были все вместе, из первого набора Ефремыча: Иван, Славка, Петро, Саня… Мы плакали, когда из нас кто проигрывал. Пацаны были, но я уже тогда думал: кто переживал просто так, с улыбкой, вроде как ничего не случилось, тот не борец.
— Да, — в ответ кивнул Николай. — Молодец Ефремыч! Набрал нас в секцию десятилетними пацанами. Иван теперь чемпион Союза, Саня первенство РСФСР выиграл, Славка — чемпион мира среди молодежи.
— А у тебя какой лучший результат, Коля?
— В начале службы стал четвертым на чемпионате ВДВ. Эх, Серега, — провожая взглядом учебно-тренировочный самолет, сказал Николай, — каких людей я там видел! Самых лучших наших людей!
На зеленой новенькой плоскодонке вдоль берега плыл старый, с рваным шрамом на черной от рабочего загара щеке, рыбак в надвинутой на лоб пожеванной кепке. На левой стороне выгоревшего под рыбачьим солнцем когда-то темно-серого пиджака скромно алела одна-разъединственная орденская планка. Сергей подумал, что это он должен, даже обязан был быть там, где служил Николай, и через сорок лет точно так, как этот старый рыбак, награжденный в жизни только один раз, но солдатским боевым орденом, с чувством, что жизнь прожита не зря, он бы спокойно плыл на такой же обыкновенной лодчонке… Как сегодня, сидели бы на берегу двое, но обязательно ни в чем не виноватых друг перед другом друзей. Им казалось бы, что перед ними на воде самый заурядный, каких много на земле, мужик: на самом же деле в его простой, некрасивой, раненой голове жила бы необыкновенная память о воинском братстве, которого ему, Сереге, теперь никогда не знать… Ему хотелось заплакать, но это делать было нельзя.