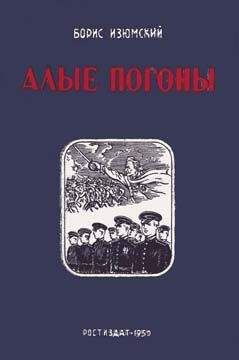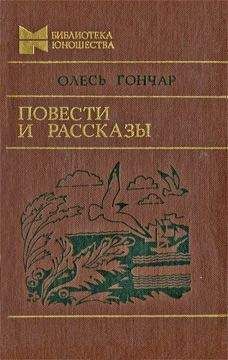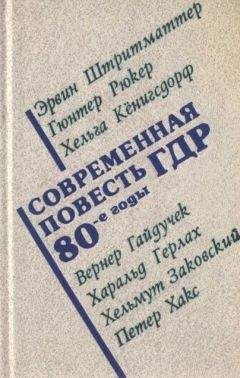Борис Изюмский - Путь к себе. Отчим.
Ну и широк же Дон! Но отступать поздно, и Сережа продолжал упрямо рассекать руками воду, чувствуя все большую усталость.
Промчавшаяся на Таганрог «ракета» поднята высокие волны. Одна из них накрыла Сережу с головой, потянула вниз. Он лихорадочно все же вынырнул, но тут силы вовсе оставили его, — и Сережа начал судорожно ловить ртом воздух.
«Все! Тону!» — подумал он с отчаянием и, страшным усилием воли заставив себя всплыть, последний раз глотнул воздух.
Перед глазами промелькнуло мамино заплаканное лицо, голос Виталия Андреевича потребовал: «Держись, держись!» Но тело, став свинцовым, уходило все глубже, и только неуместная мысль еще соединяла Сережу с тем, что оставалось наверху: «Вот Варя напугается».
Перестав даже барахтаться, покорившись неизбежному, Сережа словно сквозь сон почувствовал, как чья-то сильная рука настойчиво начала подталкивать его снизу вверх.
Лишь на берегу он пришел в себя. Приоткрыв глаза, увидел, что лежит лицом к небу возле чугунной тумбы. Тело его судорожно сжималось и разжималось, изо рта, ушей, носа извергалась вода.
Какой-то парень в тельняшке — Лепихин так и не успел его запомнить — сделал еще несколько взмахов Сережиными руками, поднимаясь с колена, сказал:
— Добре пацан наглотался! — И ушел.
Толпа, собравшаяся вокруг «утопленника», растаяла, и только встревоженная, растерянная Варя склонилась над ним.
— Сереженька, тебе плохо? — виновато и жалобно спросила она.
Сережа поднялся с каменной плиты. Его еще подташнивало.
— Пойду домой, — непослушным, заплетающимся языком сказал он.
— Я тебя провожу, — предложила Варя.
Ее поразил зеленовато-синий цвет лица Сережи. Волосы его, казалось, поредели, глаза ввалились.
— Нет, не надо. Я сам…
Варя поняла: Сереже стыдно и неприятно, что она видела его таким беспомощным.
— Ну хорошо, хорошо, иди! — торопливо, пожалуй, слишком торопливо сказала она.
Еще постояла у ограды, глядя вслед.
Погода вдруг резко изменилась: горячий ветер с Черных земель погнал клубы пыли, завихрил воронками по набережной, принес запах выжженной степи. Дон сразу поблек, словно пропитался пылью. Она заскрипела на зубах Вари, придала сероватый оттенок ее загару, золотистым волосам.
«Ну что за дурачок! Прыгнул, чтобы доказать взрослость…» — подумала она и медленно пошла домой, коря себя за то, что не удержала Сережу от безрассудного поступка.
То и дело останавливаясь и отдыхая, Сережа преодолел крутой подъем и наконец добрался домой.
Раиса Ивановна, увидя его осунувшееся лицо, встревожилась:
— Ты что? Заболел?
— Пустяки. Голова немного болит, — вяло ответил Сережа.
Раиса Ивановна дала ему таблетку, уложила на диван, и Сережа сразу уснул. Мать с тревогой поглядывала на него. Что бы это могло быть? Явно от недоедания. Он может сутками не есть. Ему просто лень жевать, тратить время на подобную ерунду.
Правда, Виталий Андреевич успокаивал ее: «Еще ни одно юное существо добровольно не умирало от голода. Захочет — сам возьмет».
За последние месяцы Сережа очень вырос. Теперь, когда он стоял рядом с ней, то поглядывал сверху вниз. Наливающиеся силой руки нелепо высовывались из рукавов пиджака. Брюки очень быстро делались короткими, и Раиса Ивановна с отчаянием говорила, что на этого верзилу не напасешься ни одежды, ни обуви.
Давно ли Сережа спрашивал у бабушки: «На какой праздник надо красить яйца и говорить: „Христос воскресник“ — „Воинственный воскресник“?» А теперь у него появились новые повадки: запирается в своей комнате; по утрам в ванной долго и с любопытством разглядывает лицо перед зеркалом, старательно выдавливая прыщи на носу. На щеках у него пушок, скорее, даже какие-то спиральки волос; в уголках губ усики. Он все чаще прицеливается к бритве Виталия Андреевича, но еще не решается взять ее. Жесткой щеткой старательно пытается зачесать волосы вверх — они упорно не поддаются, и Сережа ожесточенно смачивает волосы, надеясь смирить их хотя бы так.
В книжном шкафу Сережи Майн Рида вытеснили «Овод» и любимейшая книга — «Брестская крепость».
Мальчишка напускал на себя нарочитую грубость, восставал против «целований». Это было так странно в недавно ласковом теленке, любившем тыкаться носом в мамино плечо.
Легче, чем когда бы то ни было, он раздражался, ему все время хотелось не соглашаться, защищаться от «покушений на самостоятельность».
Но вместе с тем он мог сказать, глядя на статуэтку: «Ну зачем эти ничкемные безделушки?»
Возражать матери: «Напрасно ты заявляешь так безаляпационно».
Таблетки, которые Раиса Ивановна пробовала принимать, чтобы похудеть, называть «худощавыми».
Разобрав какой-то шахматный этюд, он вдруг поднимал у себя за дверью щенячий визг; подсчитывал просто так, из любопытства, «доллары» в материнской шкатулке и придавал самые причудливые позы проволочному повару на торшере.
Когда Раиса Ивановна недавно купила сыну нейлоновую рубашку, он возмутился:
— Однако зачем она мне?
— Пусть полежит до выпускного вечера.
Сережа безразлично пожал плечами.
Он младенчески не умел управлять своим голосом: то басил на всю квартиру, то неожиданно тонко смеялся, то вдруг уморительно пытался спеть «Любимый город» и спрашивал у матери:
— Интересно, не бас ли у меня будет?
Молодая соседка-студентка, встретив его в коридоре, удивилась:
— Сережа, как ты вырос!
Он небрежно сказал:
— Между прочим, у меня и голос ломается.
Смутно, сквозь сон, Сережа слышал, как пришел отец. Они обедали с мамой и вели свой обычный «архитектурный» разговор. До Сережи долетали обрывки фраз, словно укутанных ватой:
— Повернуть Ростов лицом к Дону…
— Центральный парк — на Зеленом острове…
— Впечатление должно быть такое, будто город «привстал»…
— Но проблема транспорта. Ты об этом подумал?
— Трамваи убрать под землю…
— А бульвары на берегах Темерника?
Сережа не мог бы объяснить почему, но ему всегда приятны подобные разговоры в их доме. И сейчас так хорошо было лежать на диване, под уютным материнским халатом и, слушая спор, думать о своем: «Интересно бы учиться в новом здании университета».
Он уже ездил с Платошей на Западный, просто так, на разведку. И словно попал в фантастический город из алюминия, стекла… У корпуса физического факультета таинственные окна-прорези, цветные плоскости… Вот бы пробраться внутрь, в какую-нибудь чертежную комнату.
К дивану подошел Виталий Андреевич, подсел. Сережа приоткрыл глада, тихо признался:
— Маме не говори, я сегодня тонул…
Глава двенадцатаяУлыбчивая, немолодая преподавательница литературы Надежда Федоровна, обведя глазами класс, спросила:
— Как вы полагаете: за что Чацкий любил Софью?
Надежда Федоровна поглядывала выжидающе. За лето ее питомцы очень повзрослели. Девчонки, прежде равнодушные к одежде, видно, стали теперь придавать ей немалое значение.
На голове у Антоши Хапона появилась буйная шевелюра. Хапон — изрядный позер, склонен разыгрывать из себя непонятого поэта-гения. Иногда мрачно ходит в одиночестве по коридорам или сидит за партой, уткнув лицо в ладони, презирая всех непоэтов и ожидая вопроса: «Сочиняешь?»
Антоша любит произносить громко, с напускным театральным пафосом:
— Какое невежество!
Или:
— Какая наглость!
Наигранно смеяться:
— Ха-ха-ха!
Модулируя баском, обращаться покровительственно:
— Мой дорогой!
А рядом с Сережей Лепихиным сидит новичок — Бакалдин. Он появился в классе совсем недавно.
— Так за что же Чацкий любил Софью? — повторила вопрос Надежда Федоровна.
Сережа задумчиво смотрит в окно. Стекло сечет осенний нудный дождь. Вдали, за Доном, никнет поредевшая роща, грустит кафе «Левада».
Сережа недоуменно хмурится. И, правда, за что любить эту противную, достойную презрения Софью?
Руку поднимает Бакалдин.
Сережа покосился на соседа. Странное у него имя — Ремир.
В первые дни Бакалдин показался Лепихину уродцем: большие, похожие на раковины радиолокатора, уши, все лицо покрыто крупными конопушками, забравшимися даже на губы.
Но позже этот Ремир стал даже нравиться Сереже: худенький, но подтянутый; простой темно-серый костюм сидит на нем очень ладно.
— Я думаю, — начал свое выступление Бакалдин, — любят не за что-то, а просто за то, что есть этот человек на свете…
Хапон громко произнес из угла класса:
— Ор-ри-гинально!
Надежда Федоровна внимательно посмотрела на Ремира:
— Наверно, это правда. Но ведь любят и за что-то!
«Конечно», — мысленно согласился Сережа и почему-то вспомнил, как после случая на Дону Варя сказала ему: «Ты все же ребенок!» И сердито подумал: «Взрослая какая!»