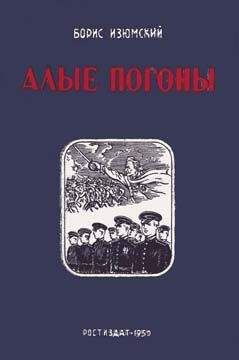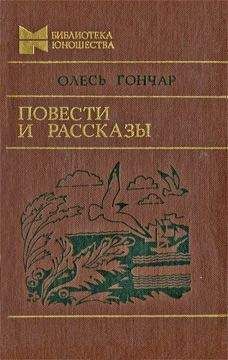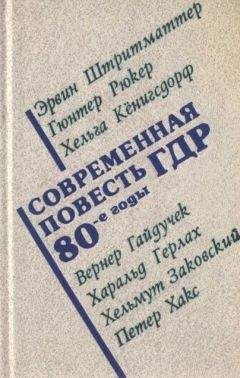Борис Изюмский - Путь к себе. Отчим.
— Сережа чувствовал себя бездомным, несправедливо обиженным щенком. Думал о матери: «Она только и знает: „Подрасти еще“, „Не рассуждай“, „Делай, что велят!“ Будто ничтожество я, и нет у меня своей воли. Меня если попросить по-хорошему, я все сделаю. А они… рукоприкладство…»
Сережа и раньше пытался защищаться.
— Что ты все рычишь на меня? — говорил он матери. — Превращаешься в робота по напоминаниям: «Выключи лампу», «Спрячь носки»… Я сам…
— Ладно, — примирительно отвечала она. — Обещаю не быть роботом, а очеловечить тебя.
Вот и очеловечила. С четырнадцати лет отвечают перед законом. Вожди революции в моем возрасте уже участвовали в борьбе. И Маяковский… А она все считает меня ребенком. Спать в девять часов укладывает. А этот… даже…
О бабушке и говорить не приходится, она совсем за сосунка принимает: «С твоим сбором металла в оборванца превратишься. Скажи, что заболел…»
Может быть, сейчас пойти к бабушке? Нет! Не мужское решение искать убежище у бабушки. Вообще, можно будет поступить в ремесленное училище, дадут общежитие…
А если заглянуть к Платоше? Неловко как-то… Надо объяснить, что произошло…
Промелькнула мысль о Станиславе Илларионовиче. Сергей отшвырнул ее с негодованием. Чтобы он торжествовал? Вот, мол, приполз ко мне вымаливать… Видишь, как они с тобой?
Не бывать такому!
Сережа миновал железнодорожный переезд в Рабочем городке и пошел к Каменке. «В деревне запросто: нашел бы стог сена, забрался в него и переночевал».
Он шел незнакомыми улицами мимо речки, аллеи тополей, словно попал в чужой город. Наткнулся на глухую стену вроде бы какого-то амбара, обошел ее и увидел приставленную лестницу. Осторожно ступая по перекладинам, добрался до верха, подтянулся на руках и очутился в темном, теплом помещении. Чердак! Пахло мышами и слежавшейся пылью. Эх, фонарика нет. Вытянув руку вперед, Сережа сделал несколько шагов, наталкиваясь на балки и какие-то ящики. Вот его рука прикоснулась к чему-то теплому. Печная труба! Великолепно, обойдемся без стога. Он еще пошарил в темноте и нашел обрывки картона. «Роскошное ложе! — усмехаясь, печально подумал Сережа, укладывая этот картон возле трубы. — Именинный вечер».
Стало жаль себя. Ну почему они все с ним так поступают? В чем его вина? Где же справедливость? Бабушка, жалуясь как-то, что у нее горько на сердце, сказала: «Если бы собака лизнула мое сердце, она бы издохла!»
Сережа тяжко вздохнул, улегся на картон, укрылся пальто.
Мстительно подумал о матери: «Небось, волнуется».
Внутренний голос обвинил: «Ну, ты тоже хорош, отвечал грубо». — «Но я никому не разрешу оскорблять меня!» — отмел укор другой голос. «И не разрешай. Однако можно было не сбегать из дому. Достаточно проучил бы, объявив голодовку».
В животе засосало, очень захотелось есть… Не надо об этом думать.
Где-то далеко хрипло залаяла собака. В чердачное окно бесстрастно заглянул месяц, похожий на краюху хлеба. Прямо дьявольски захотелось есть. Жаль, что не успел до их прихода…
…Видя, что Раиса Ивановна нервничает, Виталий Андреевич успокоительно сказал:
— Никуда не денется. Пошел к своей бабушке-спасительнице.
Раиса Ивановна действительно была очень встревожена: «Еще сдуру сбежит в другой город. Или нарвется ночью на бандитскую компанию. Все же я несдержанный человек. И, конечно, надо считаться с тем, что этому негоднику уже четырнадцать лет». Она налила себе валерьянки и выпила.
Зазвонил телефон. Кирсанов поднял трубку:
— Слушаю вас… — И, немного погодя, тихо жене: — Отец Платоши…
Чем дольше Виталий Андреевич слушал, тем сумрачнее становилось его лицо, щеки, казалось, совсем ввалились.
— Да-да… Спасибо, что позвонили… Большое спасибо…
Устало положил трубку:
— Отец Платоши, возвратясь с собрания, стал расспрашивать сына о драке Сережи, и выяснилось…
Раиса Ивановна, выслушав, что именно выяснилось, быстро оделась и пошла к своей матери.
Кирсанов, оставшись один, горестно думал: «Вот так пускают под откос сложенное с великим трудом. И остается только гневное: „Не имеешь права!“ Значит, чужой, значит, отчим!..»
Раиса Ивановна вернулась скоро, совсем убитая и растерянная — у матери Сережи не было. Ночью все страхи страшнее, а боли сильнее. Раиса Ивановна стала звонить в отделение милиции, в неотложку, но отовсюду отвечали, что Сережа Лепихин к ним не поступал.
Она то давала себе клятву, что будет обращаться с ним, как со взрослым человеком, лишь бы все закончилось благополучно и он появился, то свирепела и мысленно обещала «проучить как следует, чтобы не издевался над матерью», то, набросив пальто, выбегала на улицу и долго стояла на углу, высматривая, не идет ли?
Утром, разбитые бессонницей, подавленные, они, не завтракая, ушли на работу. В кухне на столе оставили домашнюю колбасу — ее Сережа особенно любил.
В комнате Сережи Виталий Андреевич положил записку: «Сожалеем, что не разобрались толком. Мама и папа».
К дверям, выходящим в коридор, они кнопками прикрепили бумажку: «Ключи — у Марии Акимовны» — и предупредили соседку, что сын, возможно, зайдет за ключами.
Глава девятаяСережа проснулся оттого, что болела шея: он, видимо, неудобно лежал.
Сквозь чердачное окно пробивался дневной свет. Где-то внизу натужно рычал грузовик, одолевающий подъем.
Сережа вскочил, отряхнулся, сделал разминку, энергично приседая. Покрутил головой, освобождаясь от неприятного ощущения, будто шея свернута.
Только после этого начал обследовать чердак: Ничего интересного он здесь не обнаружил: песок, зачем-то насыпанный в корзины; в углу — прохудившееся ведро, лопату без черенка, старую, рассохшуюся бочку. «Новый Диоген», — не без сарказма подумал о себе Сережа.
Он осторожно выглянул в окно. Выпал снежок, и все вокруг стало белым-бело. За углом амбара, как назвал Сережа про себя это здание, приютившее его, заворачивали машины, груженные ящиками.
Что же предпринимать дальше? Конечно, он правильно поступил, решительно отстаивая свою честь, и все же червь некоторой виновности подсасывал, не давал покоя. Конфликт можно было и не доводить до такого взрыва, а спокойно объяснить все. Однако где взять спокойствие, если тебе не верят, если с тобой обращаются, как с сопляком… Но, вероятно, нехорошо и так себя вести, как он…
Особенно мучила фраза, брошенная отцу… Конечно, он имеет право.
Сережа и сам бы мгновенно заступился за Варю, подними кто на нее руку. Но ведь он не поднимал… Это просто похоже так получилось…
…Есть хотелось все больше. Сережа порылся в карманах пальто и, к своей радости, в самом низу обнаружил провалившиеся в дырочку, семь копеек. Капитал!
Он по уже знакомой лестнице спустился с чердака и, провожаемый подозрительным взглядом какой-то женщины с кошелкой, направился к троллейбусной остановке. Возле нее был хлебный магазин, и Сережа купил себе черного хлеба.
До чего же вкусным он ему показался, никогда не думал, что можно получить такое удовольствие, вгрызаясь в краюху хлеба. Захотелось даже поурчать немного.
Как-то мама, довольная его неразборчивостью в еде, сказала:
— Солдатская каша тебя не испугает…
— Как, впрочем, и солдатская жизнь, — убежденно ответил он.
— С чего бы?
— По традиции, — усмехнулся он, имея в виду отца. И вообще Сережа теперь любил, браво сказав отцу «есть!», точно все сделать, как тот велел.
Он помрачнел: «Наверно, отец не будет со мной разговаривать».
…К центру города Сережа возвращался пешком, решив все же зайти к Платоше, но на углу Красноармейской улицы встретил Варю. На ней было мохнатое зеленовато-серое пальто, такая же шапочка, в руках Варя держала черную, на длинном шнуре, папку для нот.
— Здравствуй, — обрадовалась Варя, и, как всегда, в самых уголках ее губ заиграли ямочки. — Мама вчера, когда пришла с собрания, рассказала мне о тебе, а я говорю: «Он сам не мог полезть драться, это на него напали», Правда?
Варя смотрела своими чистыми, доверчивыми глазами и показалась ему сейчас еще в миллион раз лучше прежней.
— Правда, — стесненно подтвердил он и подумал, что, если бы Варя оказалась свидетельницей вчерашней сцены у них дома, она бы его не оправдала.
Кирсановы звонили с работы на свою квартиру через каждый час.
Наконец уже в начале первого, когда Раиса Ивановна совсем обессилела от тревоги, в трубке раздался голос Сережи:
— Вас слушают…
Ах ты ж негодник — он слушает! Интонация у него точно такая, как у Виталия Андреевича, когда тот поднимает трубку. Но будто ничего и не было, Раиса Ивановна спросила:
— Сереженька, ты позавтракал?
Произошла заминка, похожая на замешательство, и раздалось тихое:
— Да…
— Мы сегодня придем, как всегда, в начале шестого.