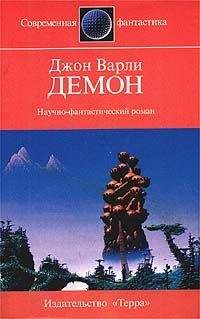Андрей Соболь - Рассказ о голубом покое
К ужину прибыли музыканты. Слепой, в дымчатых очках, изрытый оспой певец запел про Санта Лючию, сослепу поворачивался не туда, куда надо, но изгибался после каждого куплета и млел на кадансах и парил на носках, опрокидывая голову, закатывая тёмные вместо глаз провалы. И скрипки изнывали в истоме, и переливчато замирала мандолина.
Ко второй песне сошла вниз княгиня, сёстры Гресвик как будто забыли о счёте, Лора Гресвик даже сказала под сурдинку «браво», Сильвия Гресвик в подтверждение качнула головкой. Но, не дослушав «Mare chiaro», княгиня изволила отбыть в свою комнату, за ней потянулись остальные. Загрохотали стулья, слепой певец скомкал песню и в удручении стал ощупью пробираться в уголок, фрау Берта не показывалась, только на мгновение рядом с княгиней мелькнул птичий профиль советника-адвоката, флегматичный баварец, дремля под своей чёлкой, тушил лишние лампы, музыканты гусиным выводком тянулись к выходу, как надоедливых, но неотступных сожительниц, прижимали к себе скрипки, виолончели и, оборачиваясь, кланялись и улыбались пустым столикам.
Стоя в дверях, у притолока, Лауридс Рист остервенело выколачивал трубку, Пипо сбоку вцепился в него, виноватым шепотком кинув: — «Ну?»— Лауридс безнадёжно махнул рукой и потребовал сода-виски.
Ночь сравнительно прошла спокойно: ставни скрипели, ржавые петли визжали, но терпимо, в саду уже не так надрывно, как в прошлую ночь, жаловались оливы. А незадолго до рассвета ветер упал, внезапным очистительным грохотом обрушился гром, молния надвое рассекала залив, на мгновение вырезала из темноты лохматую грудь Везувия, в прорезе мелькнул на горизонте и сгинул бесформенный фантастический силуэт океанского парохода, и, бодрой дробью расстреливая остаточные ночные убегающие тени, рассыпался дождь
Лауридс Рист вышел на террасу, — не спалось Лауридсу Ристу, — и хоть ночь, но вскинул глаза к привычному месту, — и на каменных плитах застыли окаменевшие ноги: сквозь ставни окна фрау Берты Таубе пробивался электрический свет, и две параллельные светлые полоски точно взывали о помощи, как робкие последние огни вдоль бортов тонущего корабля.
Огромным кулаком Лауридс Рист погрозил окну:
— Нет, ты её у меня не увезёшь. Не допущу!
И у себя в комнате, выжимая мокрую бороду, Лауридс Рист гневливо-бодрым фырканьем приветствовал новый день, новую любовь и вечно новую и вечно старую звериную жадность жизни.
Днем Пипо сам отправился в городок, пипин ослик ревел от восторга, — этой поездке предшествовал краткий разговор с датским художником. После ночного дождя сирокко свернул свои крылья, спрятал когти, но было пасмурно, — тускло блестела оголённая, не запятнанная шезлонгами, сырая терраса.
День разворачивался обычно, но завтрак прошёл в безмолвии, и было похоже на то, будто все в заговоре и ждут только назначенной минуты. Лауридс Рист отметил, что у фрау Берты дрожат пальцы и два маленьких красных пятна, словно следы от укусов комара, не сходят с бледно-матовых щёк.
Пипо, вернувшись из городка, послал Микеле за Лауридсом Ристом, княгиня разрешила себе маленькую прогулку в сопровождении господина советника Оскара Таубе и венского по женским болезням доктора Артура Пресслера, — тоненькие ножки господина советника в спортсменских чулках с цветной надшивкой со скромной гордостью соответствовали мелким княжеским шажкам, Артур Пресслер рокочущим баском рассказывал скромные анекдоты из своей практики, Пипо из окна кухни в молчаливом умилении приветствовал мирвещающий выход княгини.
А к пяти часам снова, — сперва тихим ворчанием, как только что проснувшаяся цепная собака, но пока ещё привязанная к своей конуре, напомнил о себе сирокко. Но Пипо бровью не повёл, обменявшись с Лауридсом Ристом многозначительным взглядом: Пипо верил в Лауридса Риста, Лауридс Рист надеялся.
И в неурочный час, изнывая в бешеных руках Микеле высунув обалделый язык, зазвенел колокольчик, — по всем коридорам зашевелились недоумевающие пансионеры, хлопали двери, гульливый голосок мадам Бадан звал Мадлену, Микеле, мало доверяя звонку, в придачу исходил пронзительным криком «Тарантелла! Тарантелла!», из салона спешно выносили мебель: к княгине торопился Пипо с особым, заранее подсказанным Лауридсом Ристом приглашением на вечер национального искусства в честь многоуважаемой принчипессы, которая из далекой, но дружественной нам Румынии соизволила и т. д., Лора Гресвик щебетала: «Сильвия, ты слышишь: тарантелла? Как это мило», и Сильвия Гресвик сочувственно кивала головкой, Лауридс Рист удовлетворенно терзал бороду, к воротам подъезжали тележки, директор труппы выгружал малолетних танцоров.
— Боже, да это дети танцуют! — проговорила на пороге салона фрау Берта, проговорила про себя, тихонечко, недоумённо, протяжно, с болью и, вся залившись внезапным густым румянцем, быстро прошла вперёд, — Лауридс Рист едва успел посторониться.
Гудели бубны, детские ручонки щёлкали кастаньетами, тщедушные фигурки, в возрасте от 7 до 15 лет, — девочки с застывшими улыбками, мальчики с заученными жестами, — убого и жалко плели круг южной и пылкой отваги, мёртво пристукивали каблуками; уныло трясли цветными шарфами, а когда единственное живое существо, шестилетний карапуз, прекомичное создание в неаполитанском костюмчике, с глазёнками-изюминками на пухленькой важно-сосредоточенной рожице, сорвал с себя красный хвостатый колпачок и, уморительно преклонив колено и набок пригнув головку, полуобнял свою партнёршу, девочку лет десяти с бледно-зелёным личиком и тёмными подглазниками, — фрау Берта стремительно нагнулась и, схватив карапузика на руки, прижала его к себе крепко. И поцелуями мелкими-мелкими, точно крестиками торопливыми в путь-дорогу, стала покрывать полуиспуганную мордочку.
Во втором ряду, за креслом княгини, раздался негодующий, но ровный окрик советника:
— Берта!
Лауридс подхватил мальчика; подхватывая, спрашивал:
— Вы любите детей?
— Безмерно! — сдавленно вырвалось у фрау Берты, и тотчас фрау Берта пришла в себя, и фрау Берта выпрямилась. Но Лауридс не отпускал мальчика, а мальчик одной рукой держался за рукав фрау Берты и другой цеплялся за Лауридса, и была фрау Берта как бы в плену, и шептал Лауридс Рист короне из белокурых кос, полуопущенным ресницам, полузакрытым серым глазам:
— А я люблю вас. Я люблю вас.
— Молчите, молчите. Ради бога, молчите.
— Я буду говорить, буду. Я люблю, люблю.
Мальчонка поводил окончательно перепуганной рожицей, фрау Берта торопливо освобождала рукав.
Тарантелла продолжалась, но громко сказала княгиня:
— Я обожаю тарантеллу. Но в исполнении сильных и статных мужчин.
И советник Оскар Таубе немедленно согласился с ней и, предлагая руку, выпятил цыплячью грудь, и американец мистер Ортон промолвил, что участие детей в таких, в сущности, языческих танцах противоречит христианской морали, и добавила мистрис Ортон, что это даже просто неприлично, не говоря уже об этике христианства. И, уединившись с доктором Пресслером, изливал наболевшую душу Аугуст Рисслер, на кого возбуждающе действовали танцы, — ах, это не важно, что девочки танцуют, ноги-то мелькают, и если вдуматься хорошенько, то тоненькие ножки девочек ещё больше влияют на…
И сквозь плоские зубы сердито выбрасывали Аугуст Рисслер, doctor phil. и владелец трёх берлинских колбасных:
— Свиньи! Сущие свиньи эти итальянцы. Уверяю вас. Подумайте, такая красота вокруг, только наслаждаться бы, а в самом большом аптекарском магазине вы не можете добиться, чтоб вам дали прочный товар, настоящий, а не чёрт знает какую дрянь.
Танцы были прерваны на середине, со вздохом поднялась маленькая Герта Рисслер: пугливая радость-надежда на лишний час оттянуть уход в комнату отлетела, такая маленькая радость — и та померкла.
За дверьми уже сорвавшийся с цепи сирокко наверстывал время: метался между оливами, прыгал по апельсиновым деревьям и колючими лапами сбивал золотые шары.
— Раdrе! — тихо и ласково, как человек, наконец-то освободившийся от тяжёлого груза, но в то же время счастья не обретший, сказал Лауридс Рист Пипо Розетти, в обездоленном салоне приготовляя себе сногсшибательную смесь из вермута, виски и коньяку.— Раdrе, крах! Мы прогорели. Нужны другие исключительные меры.
— Е-е, mа! — безнадёжно протянул Пипо, — Широкко! — и покорно, заранее принимая все удары, поднял глаза к небу — к потолку, по которому прыгали и резвились упитанные, коротконогие, толстопузые, как рахитики, розовые амуры.
Глава третья.
S. O. S! (Save our Souls)
Hotel Terminus.
Ричарду Рандольфу.
Pension «Concordia», 28 марта, 192….. г.
Ричард, гениальный человек и гений дружбы, спасай! Спасай твоего бедного Лауридса; твой Лауридс погибает, твой Лауридс погибнет, если ты не выручишь его, твой Лауридс утонет, если ты не поспешишь ему на помощь, если ты ему, утопающему, не кинешь спасательный пояс дружбы, изобретательности и любви. Вода заливает мне уши, я глохну, я уже оглох, ещё немного — и моя борода уляжется меж подводными камнями. Я делаю последние усилия, чтобы удержаться на поверхности, но уже вижу, как крабы впиваются в моё тело, как липкие водоросли сводят мои пальцы, и слышу как в далёком Копенгагене моя бедная старушка оплакивает свою несчастную крошку.