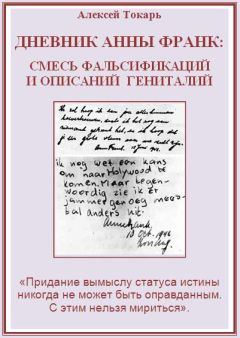Ицхокас Мерас - Желтый лоскут
Я не осмелился поднять на него голодных глаз.
— Я знаю, что надо делать! — хлопнул он себя ладонью по лбу и побежал куда-то, но тотчас же вернулся с кирпичиком хлеба в руках. — Ваш сын хочет есть, — обратился он к маме. — Я вам отдам хлеб, только с условием. Положите его себе на голову и станьте там у рва. Идет?.. Только смотрите, чтоб хлеб не свалился! — добавил он осклабившись.
Зачем это? Я ничего не понимал. Мама утвердительно кивнула. Немец поставил хлеб маме на голову, проверил, хорошо ли держится, и начал отсчитывать шаги в обратную сторону.
Мама застыла. Я съежился и закрыл лицо руками.
— Чем не Вильгельм Телль? — загоготал фашист, и вся солдатня вторила: «Ха, ха, ха!»
Гулко прогремел выстрел, даже в ушах зазвенело. Я с трудом оторвал заледеневшие ладони от глаз.
Мама продолжала стоять, а буханка хлеба лежала в грязи на дороге.
— Мама! Мамочка!..
Я подбежал к ней, но она не шевельнулась и, словно окаменев, уставилась в одну точку.
— Идите, идите, — подал голос один из солдат, стоявший все время в сторонке.
Мама подняла хлеб, и мы пошли.
Она очистила с поджаристой корки черные комочки приставшей грязи, отломила горбушку и подала мне.
Есть мне теперь совсем не хотелось, но, взглянув на маму, я откусил кусочек и нехотя стал жевать. Жевал и не чувствовал вкуса, только ощущал, как хрустят на зубах песчинки.
ТОЛЬКО ОДНА МЕЛОДИЯ
Туман поднялся над речкой Жвине и пошел стелиться вдоль ее левого берега. Сначала вроде прозрачной легкой дымки, он, все сгущаясь, превратился в пушистое белесое облако. Зыбкое и подвижное, оно быстро затянуло побережье, даже речки не стало видно, и наконец, просочившись сквозь кусты, заволокло лужайку, а там вмиг докатилось и до нашего хутора.
Из сарая вышел Мойше Кровельщик. Остановился посреди двора, потеребил пальцами черную как смоль бороду и проговорил:
— Радуйтесь, женщины, пляшите, дети, — завтра будет погожий день!
— Погожий? И солнце? — подбежал я к Мойше.
— По солнцу стосковался?
— Ага…
— И солнце, обязательно будет солнце. Только, может, увидим его, а может, и нет…
— Отчего не увидим, раз тучи рассеются?
— Да ты не огорчайся, это я так себе. Мало что старику в голову взбредет… — А потом добавил: — Мне и сейчас уже жарко.
— И мне!
Обложные тучи еще скрывали небо, а густая мгла застелила речку, но я ничего этого уже не замечал. Я будто забыл про ненастье и дожди, так донимавшие нас последнее время, и мне лишь чудилось завтрашнее солнце, его горячие лучи. Проворнее зашевелились озябшие пальцы, приятное тепло разлилось по всему телу.
Я верил Мойше. И все верили ему. Одна за другой из сарая и клети выходили женщины, а за ними высыпали ребятишки. Видно, и им уже стало теплее. Расселись кто на травке, кто на опрокинутой колоде, а кто на трухлявых досках. Женщины постарше открыли свои толстые замусоленные молитвенники и нараспев принялись читать псалмы.
Так каждый вечер они взывали к богу, уповая на его помощь. Просили, молили, упрекали и опять молили. Но до сих пор он оставался глух к мольбам. Может, наши молитвы не могли пробиться сквозь толстую завесу туч? Тогда авось нынче, в канун погожего дня, они найдут в небе хоть самую малую щелочку. А может быть, завтра, когда уже ничто не заслонит солнца…
Женщины тянули псалмы, то и дело отрываясь, чтобы утихомирить плачущих детей; скорбные, надсадные голоса дрожали от слез и горькой обиды, от мук и страха неизвестности. Они просили если не воли, то хотя бы, чтоб их поскорей отправили в Люблин на работы, как это не раз обещали.
Мойше Кровельщик в молениях участия не принимал. Сегодня, как и в прежние вечера, он тихо сидел, опираясь на свою толстенную дубовую палку, и, покачивая головой, глядел вдаль.
Мойше считали человеком с причудами. Это я и раньше слышал, еще до войны. Только не понимал почему. К примеру, отчего это к его имени прибавили Кровельщик, а не реб, как принято именовать уважаемых старцев у евреев? Неужто оттого, что он в синагогу не ходил? Но мацу-то он на пасху всегда ел. А может, потому, что в таком преклонном возрасте — а ему было за семьдесят — он совсем как молодой лазил по крышам и покрывал их гонтом даже лучше других кровельщиков? Или потому, что волосы у него были белые-белые, а борода черная как уголь? Над этим он и сам нередко смеялся:
— Борода, вишь, моложе головы — вот и поседеть не успела.
Неловко сознаться, но и я, был грех, вместе с другими мальчишками часто гонялся за ним, выкрикивая злую дразнилку:
Чертова борода.
Как смола, черна.
Чертова борода,
Как галка, черна.
Но Мойше этого мне не припоминал. То ли забыл, то ли, как и я, вспоминать не хотел.
Здесь, в лагере, я убедился, что он вовсе не чудак, и не Мойше Кровельщик, а настоящий реб Мойше, отец Берке. Стоило заглянуть в его добрые карие глаза, и сразу делалось легче и спокойнее на душе.
Только вот страшновато становилось, когда он двигался. Высокий и такой худущий, чуть не тоньше своей палки, ходит и сгибается. Казалось, вот-вот надломится, как сухая ветка. Верно, потому его, единственного мужчину, и оставили в нашем лагере.
Пока женщины читали псалмы, мы с ним устраивались где-нибудь поодаль в укромном уголке. Реб Мойше усаживался, опираясь на свою палку, а я — рядышком. Вперившись в одну точку, он раскачивался и думал свою Думу.
Я знал, о ком думал старик в эти минуты. О своем сыне Берке, о его судьбе.
Мойше молчал, но лицо его все время менялось. Губы то раскрывались в широкой улыбке, то сжимались. И печальные глаза устремлялись к кому-то невидимому с упреком, а в разлете бровей залегала глубокая складка тревоги. Но миг, и лицо снова светилось улыбкой. Да ненадолго.
Опять тесно смыкались губы, вскидывалась борода — Мойше ненавидел.
Тогда я легонько касался его руки и просил:
— Расскажите, реб Мойше.
— О чем же тебе рассказать-то? — спрашивал он, хотя отлично знал, каким будет ответ.
— О Берке.
— О Берке? Тебе еще не надоело слушать?!
— Нет, не надоело!
Он начинал всегда одними и теми же словами, будто утешая самого себя:
— За правду пошел мой Берке… За правду…
Помолчав, он продолжал:
— Давно, еще совсем мальчонкой, щупленький, вихрастый, вроде тебя, тоже все правду искал. Пытливый, неугомонный такой… Все ему знать хотелось. Бывало, сядет со мной за стол и ну приставать с вопросами: «Отчего, говорит, у Левиных фабрика, автомобиль, а ты все по крышам да по крышам лазишь, без роздыха гонтину к гонтине подгоняешь, а денег у нас ни копья? Это что, справедливо? Пусти и меня на крышу, авось оттуда виднее…» Хорош бы я был. А вдруг, не дай бог, свалится, ногу сломает или и вовсе насмерть разобьется?.. Ни-ни, ни боже мой. Единственный сын, сирота… Без матери… И вишь что надумал — на крышу!.. Шли годы. Пришел сороковой. Раз он и говорит мне: «Знаешь, отец, хоть я и не лазил на крышу, а правду все равно нашел». — На этом месте реб Мойше всегда глубоко вздыхал. — И на тебе, война! Мало горя видели. Первый день войны… И что же сделал мой мальчик, как ты думаешь? Взял винтовку, пришел домой и говорит: «Тяжело мне, отец, тебя оставлять одного… но сам видишь… Ухожу». Ну и что же ты думаешь? На крышу я его не пускал, а теперь прямо на фронт идет. Что было делать? — Мойше опять глубоко вздохнул. — Благословил. Как благословил? Да очень просто, как положено отцу. Обнял, поцеловал в лоб и сказал: «Иди, сынок. Только воротись живым и здоровым». Что я мог поделать? Сын ведь пошел воевать за правду.
Так Мойше кончал свой рассказ.
Тогда я принимался за расспросы:
— Говоришь, с винтовкой ушел?
— С винтовкой, дитя мое. Взял на плечо и ушел.
— Плохо.
— Отчего же плохо? — удивлялся он.
— С винтовкой, видишь ли, пока нацелишься… Я бы ему лучше коня дал да острую саблю. Ворвется Берке в самую гущу немецких полчищ и давай рубить направо, налево… Всех уложил бы до одного.
— Недурна и острая сабля, — соглашался Мойше.
— Ну конечно, — продолжал я, свято веря в это, — Берке, наверное, дали коня и острую саблю.
— Дали, наверное дали… — Мойше опять смотрел в одну точку. — Несется теперь мой сынок, как сокол, и крушит врага.
Тогда я придвигался совсем близко к Мойше и испуганно шептал:
— Не ранили бы…
Старик ничего не отвечал. Молча ждал, пока женщины закончат псалмы, и тогда приносил свою скрипку. Скрипку, что всегда пела только одну мелодию.
Никогда не слышал я другой такой мелодии, которая печалила и утешала, веселила и вызывала слезы, которая так много говорила без слов.
Вот и сейчас, когда женщины устали от чтения псалмов, реб Мойше взял в руки свою старенькую, потертую певунью-скрипку и коснулся смычком ее струн.