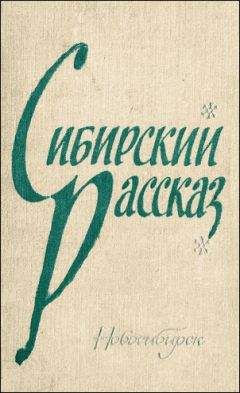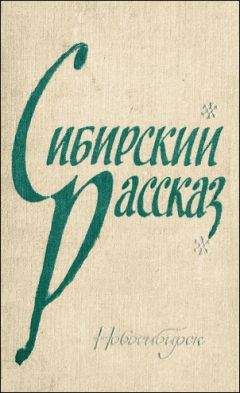Виктор Лихоносов - Домохозяйки
— Се так? — пьяный, он не все выговаривал.
— Горит все внутри.
— А се с ты не сказала, я б купил.
— Сам должен знать, — разыгрывала его она.
По пьянке Терентьич любил прихвастнуть и наобещать, а трезвый — забыть.
— Где тебя черти носили? — строго спросила жена.
— У друга борова колол, — соврал Терентьич.
— И оставался бы там! Жрать захотелось, небось, не покормили?
— Что ты, кума, на него напала? — защитила его Мотька Толстая. — Ну, выпил, подумаешь…
— Да ну его!
— А се ты, мать, раскипятилась? — кривил губы Терентьич.
— Се-се! — передразнила жена. — Ты у меня скоро насекаешься. Нажрался, и-и-и, не стыдно?
Была она строгая лишь на вид, кричала впустую. Терентьич за многие годы хорошо изучил ее отходчивый характер.
Он посмотрел на Варю, тайком мигнул ей: нет ли там по стаканчику?
— Мне не жалко, спрашивай у жены.
— Не давай, ну его к черту!
— А ты молси!
— Пошли домой.
— А кого мы там не видели? Я там не нужен.
— На-ачал уже, начал. Не нужен он.
— Сестриська! — обратился он к Мотьке Толстой. — Давай запоем.
— Давай, братка. Какую мы, братка, запоем?
— А вот эту.
Ка-ак на ре-еськ-е ма-ае-ей
Все гаре-ел ага-ане-ек.
Расцвета-али-и кудря-явы-ые-е…
— О, высоко, братка, взял.
— Подстраивайся, подстраивайся.
Ка-ак на ре-есь…
— Сестриська! — крикнул он плача.
— Чо, братка? Не дают, да? Выпить не дают? Ах, они, царя мать! Счас, братка, моей попробуем, у меня своего завода есть.
— И-ы-ых! — заскрипел Терентьич зубами. — Ребята меня не признают. Не почитают за отца. За кого ж я тут живу?
— А ты не обращай внимания. Они уже большие, у них своя семья на руках, зачем они тебе? Ум будет — чо-нибудь поймут, а нет ума — своего не вставишь. Воспитал, выкормил, живи теперь по-стариковски со своей Мотей. Чо, плохо разве она к тебе относится?
— Мотя — нисе не говорю. Моть, ты не ушла еще?
— Жду ж.
— Как я, сестриська, любил! Как я…
— Иди, иди, — уцепила его жена. — Пошел теперь жаловаться. Вое уже давно знают, сколько можно?
— Пусть поплачет, — моргнула Мотька Толстая. — Скачи, братка, это не я плачу, это вино плачет. А, братка, слышишь?
— Домой, домой!
— Мотя! Ты не лезь… не лезь… Сестриська, и я ее люблю. Хочешь, поцелую!
— Ой, беда с тобой, братка! Ее-то, я знаю, что поцелуешь. Ты меня поцелуй.
— Я к ней — не поверишь! — в одних кальсонах перешел. Скажи, Моть? Так ведь? Ну! А сейчас у нас? Все есть! Обуты, одеты. Я своих детей не знаю, я на фронт мобилизовался, они еще ма-аленькие были, один еще и не ходил даже. Так в оккупации и пропали.
— Ты уж рассказывал, братка.
— Да не мешай ему, — сказала Варя, — пусть человек выскажет, раз у него наболело. У каждого свое.
— Подожди, сестриська, Варя правильно говорит. Ка-ак я… эх… Жену убило, а детей развезли. Я и розыски посылал — нет.
— Ясно, братка, ясно…
— А се, ее ребята… а! Я неродный, я знаю, но дорого то, что они отцом назовут. Оно знаешь, как на сердце… когда своих нет.
— Хватит, братка. Зато люди тебя не осудят.
— Варь! — обернулся он. — Налей стаканчик.
— Пошли, пошли, — потянула жена. — Варь, не вздумай!
— Ух, старушка моя, — заулыбался Терентьич и полез целоваться. — Ты меня любишь?
— Какая там в пятьдесят лет любовь! — засмеялась жена. — Ты и выдумаешь.
— Мне тоже пятьдесят, а любить хочется. Я как молодой, — сказал он и тут же изобразил себя молодым.
Варя и Устенька улыбались.
— Пошли, пошли. Я тебя покормлю-ю, поспишь.
Терентьич согласился, обнял жену и в сенях опять запел:
Ка-ак на ре-есь-ке-е ма-ае-ей…
— Пошли, пошли, — засуетилась Устенька. — Мой тоже вот-вот с работы заявится. Хоть картошки поджарить.
— Ты уже управилась?
— О, нет еще. Варя, заходи ко мне.
— Я вечером забегу. Состирну и прибегу.
— Ага, забегай, Варя. И ты, кума.
— Мне Васе еще меню составлять, — сказала Мотька Толстая.
На улице стало светлей, переливалась на закате дождевая роса, далеко в центре города, за рекой, блестел купол оперного театра. Из репродуктора на новом базаре слышались последние известия.
— Посвежело, — сказала Варя за калиткой.
— Да. Теперь может, перестанет.
— Хоть бы…
Переговариваясь, они расходятся в стороны. Громко по улице разносятся их голоса.