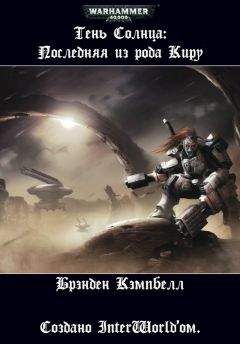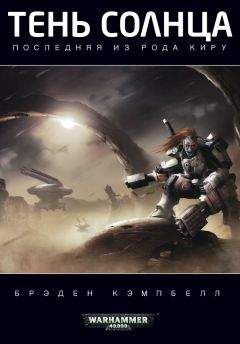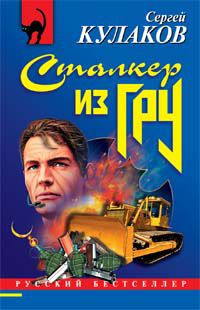Валерий Бирюков - Всего три дня
Сирена всегда напоминала Савельеву его первую боевую тревогу — в ночь на двадцать второе июня: оделся, схватил чемоданчик, выскочил за калитку, а через секунду, всего через какое-то мгновение, за спиной так рвануло, что он уткнулся носом в землю.
Оглянулся — а вместо дома только груда дымящихся бревен. Не тогда ли он сердце надсадил: хотел бежать к развалинам, которые погребли его первую жену Анюту, так и не очнувшуюся от сна, не понявшую, что случилось, а ноги сами несли его к казармам, откуда высыпали в воющий и грохочущий рассвет красноармейцы дивизиона? Через несколько часов бешеного марша к границе батареи развернулись на огневых позициях, и гаубицы начали ухать по невидимым целям. Он кричал своему взводу «Огонь!» срывающимся голосом, словно пытался выкричать боль, которая нестерпимо жгла его грудь. А глаза будто высохли — стоит в горле жесткий першащий ком, но ни выплакать его, ни сглотнуть. Ведь они с Анютой и года не прожили еще, первенца ждали…
Савельев достал большой носовой платок и вытер взмокший лоб. Сколько лет миновало, а он все не может отделаться от чувства вины перед погибшей Анютой. Хотя какая уж тут вина? Помочь жене все равно бы не смог — слишком поздно было. Впрочем, если бы и не поздно, то еще неизвестно, что взяло бы верх: любовь или долг. Так или иначе, но стоило взвыть сирене, как всплывали воспоминания о той ночи…
События ее и последующих дней и ночей войны наложили свой отпечаток на отношение Савельева к подчиненным и ко всему, что иные считали «мелочами». Он словно отчитывался готовностью своего дивизиона перед всеми погибшими, а в этом нет и не может быть мелочей. И завтра на учениях он докажет, что сделал ради этого все, что мог. Нет, зачем же завтра? Уже по сбору майор Антоненко может судить, каковы его солдаты: времени он не засекал, но знал, что дивизион снялся быстро.
Савельев зашел в спальное помещение второй батареи. Там был беспорядок: разбросаны газеты, рассыпаны шахматы, сдвинуты табуретки, — но подполковник, при всей своей строгости и любви к порядку, не рассердился. Главное — собрались быстро. В тревожные минуты это важнее всего. В другое время, конечно, Савельев такого не допустил бы. Он видел в строгом однообразии казармы, в ее скупом мужском уюте пусть суровую, даже немного аскетическую, но красоту. Правда, за последние годы стараниями замполита майора Трошина казарма приобрела какую-то непривычную для командира домашность. На окнах появилась голубая кисея, у каждой кровати — коврик, а посреди спальных помещений легли зеленые дорожки. И еще цветы все заполонили — стояли на подоконниках, свисали со стен, пышно распускались на огромной клумбе перед входом в здание. Савельеву не нравились эти новшества. Считал, что солдату ни к чему такие сантименты.
— Ты что ж мне, Иван Кирилыч, этот, как его… будуар из казармы делаешь? — хмуря клочковатые брови, сердито выговаривал он Трошину. — Хоть в отпуск не уезжай! Всегда что-нибудь придумаешь! Мне солдаты, понимаешь, сол-да-ты тужны, а ты каких-то кисейных барышень из них хочешь вырастить? Цветочки, занавесочки, салфеточки! Тошно мне от этих «очек»! Прошу тебя, Кирилыч, не расхолаживай мне людей, не размягчай. Быт у солдат должен быть суровым, как служба, как дело, к которому они готовятся. Он собранность должен в них воспитывать а поддерживать. Не давать расслабляться. Ты слышишь: суровый!
— Слышу, Алфей Афанасьевич: «суровый», — добродушно и вроде бы виновато соглашался майор Трошин и прятал легкую усмешку, — но только не черствый, вот что я на это скажу. Другие времена, командир. Народ сейчас какой в армию идет, а? Из квартир со всеми удобствами, привыкший к комфорту, а ты его в голые стены хочешь запрятать. Кровати, табуретки, тумбочки, вешалка, пирамиды. Сухо, неприветливо, негде глазу отдохнуть. Нет, надо, чтобы казарма, как дом, была уютна, чтоб тянуло солдата в нее после занятий, чтобы хоть здесь он мог немного расслабиться. Даже пружина, если ее долго в напряжении держать, не выдерживает, а она стальная. Тут же люди. И потом уставами это не запрещено.
— Но и не предусмотрено! — ворчливо парировал Савельев.
— Будет, Алфей Афанасьевич, — мягко успокаивал замполит, — не станешь же ты авторитет мой подрывать, отменять мои указания. Не так уж много я этих «очек» ввел.
— Ладно, будь по-твоему, — нехотя сдавался Савельев, чувствуя правоту Трошина. — Но учти: на поводу у отсталых идешь. Это тот, кто приходит на службу лишь бы номер отбыть, видит казарму убогой да серой. А кто любит армию, кто долг свой честно исполняет, тот найдет подходящее слово: скромная, скажет, здесь обстановка, мужская, ничего лишнего в ней. Так что не увлекайся чересчур, а то и на авторитет твой не посмотрю. Казарма — не теплица…
И хотя в казарме стало как-то веселее глазу — этого Савельев не мог отрицать, — в душе командир был неспокоен: поддался новым веяниям. Эстетика, ломка традиций! Очень уж любят молодые что-нибудь ломать. Нет бы присмотреться с думкой — а что сохранить надо? Была бы такая думка у майора Антоненко, на сердце спокойнее стало бы…
Савельев вздохнул: и хотел бы настроиться на другое, а все равно к старым мыслям возвращаешься. Он подошел к окну, чтобы посмотреть, не идет ли посыльный, и тут заметил письмо на полу. Крякнув, нагнулся, поднял. Глянул на конверт и удивился: было адресовано Степану Новоселову. Вот тебе и философ конопатый, драчун и сорванец этакий! Впопыхах и прочесть-то не успел, только кончик конверта надорвал. Наверное, почту принесли — и на тебе, тревога! Сирена — и все личное из головы вон, даже письмо близкого человека. Молодцом! Есть в тебе моя закваска, гвардии ефрейтор!
Пряча письмо в карман, Савельев довольно улыбнулся. Он уже забыл или не хотел вспоминать сейчас, что всего несколько дней назад говорил Трошину об ефрейторе другое. Новоселов перед увольнением в поселок наломал букет роз с клумбы, и Савельев, заставший его в этот момент, был вне себя от возмущения.
— Вот полюбуйся на свое воспитание, комиссар! — выговаривал он замполиту. — Нужна ему красота твоя, эстетика, как же! Ты ему диспут «Что ты ищешь в искусстве?», занавесочки да коврики, а он тебе сначала вульгарную драку затевает — девушку, ты ж понимаешь, не поделили с поселковыми сердцеедами, — а теперь вот клумбу потрошит.
— Семейный разговор у нас, Алфей Афанасьевич, получается, не находишь? — с улыбкой отбивался майор Трошин. — А я на это отвечу, что дети у нас с тобой общие: оба воспитываем, с обоих и спрос. Чего ж одного меня винить? И не надо все в кучу валить. Драку не Новоселов затеял, верно? А цветы ему для хорошего дела понадобились — на день рождения девушке нес. Ты, наверное, и не спросил, для чего?
— Да разве в этом дело! Что, не разрешили бы ему цветов срезать, если бы попросил? Так нет, как воришка мелкий, тайком… Хорошее дело надо чистыми руками делать. Короче, прикрыл я ему увольнение!
— А вот это ты напрасно! — неодобрительно покачал головой майор Трошин. — Погорячился, вот что я на это скажу. Строги мы иногда чересчур.
— Ага, теперь уже я виноват? Ловко повернул, комиссар, ничего не скажешь! Может, отменим вообще наказания по причине всеобщей сознательности? Только поощрять будем, а? Нет, мало я ему хвоста накрутил! Знал бы ты, кого хоть защищаешь! Этот Новоселов после нахлобучки засел в курилке и начал общественное мнение обрабатывать: мол, если человек много повидал, пережил, имеет заслуги, то он достоин уважения, так как мудр и справедлив. — Савельев остановился, заметив, что у Трошина вздрогнули и поползли вверх уголки губ. — Ну, чего смеешься-то? Про меня, конечно, толкует, философ конопатый! Ты дальше послушай, к каким он выводам пришел. Дескать, если посылка его верна, то имеет ли этот многомудрый человек, то есть я, право авторитетом своим его давить? Имеет ли право шумнуть на него? Иначе где же мудрость? Завернул, ты ж понимаешь! Вот тебе и «чересчур строги»!
Увидев, что глаза майора Трошина полны слез от едва сдерживаемого смеха, Савельев окончательно обиделся:
— Я же говорю, твое воспитание!
— Погоди, Алфей Афанасьевич. Не над тобой смеюсь, хотя, на мой взгляд, ты не прав. Красиво Новоселов философствовал. Не его, правда, мысль. Вычитал где-то пострел, сейчас не помню. Но не мы ли сами учили его рассуждать, думать, а не просто исполнять? Видно, не очень доходчиво ты объяснил его проступок. К тому же в увольнение парню хотелось. И не стоит обижаться, что он обсуждал твое решение. Это неизбежно: не вслух, так про себя человеку присуще взвешивать свою вину. Так ли она тяжела, как это сказал старший? Важнее для нас — согласился ли? Вот это уже от нас самих зависит, от объективности нашей и справедливости. — Трошин прищурился хитро, спросил: — Опустил ведь окончание? Только честно? Сдается мне, что солдаты щелкнули все-таки по носу Новоселова. Быть не может, чтоб не щелкнули, а?