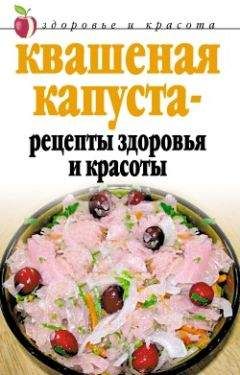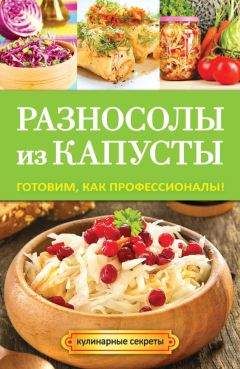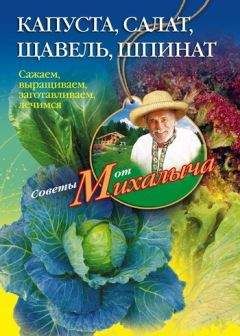Михаил Малиновский - Рассказы
Кирилл вздохнул: от знакомого рассказа и оттого, что передает его чужой человек, защемило сердце.
— Закуришь, Кирилл Андреич?
— Скорей надо. Лукьяныч ждет.
— Живой, значит, — Матвей послушно стронул машину, но скорости не набирал. — А Иван где?
— Погиб на фронте.
— Иван погиб?! А Яков с Михайлом?
— Тоже.
— А этот, самый младший-то, как его, Серега, что ли?
— И он. Все там.
Машина рванулась.
До Лесовой они больше не обмолвились ни словом. Обоим думалось об одном: зачем живет человек, что сохраняется от него на земле?
Дома их встретили Лукьяныч и Степан Кузьмич Сухарев, слесарь вагонного депо. Они уже поставили в сенях перегородку за дверью, сбросали за нее капусту, в стене сеней напротив двери из дома надрубили верхнее бревнышко, но проема делать не стали загодя. Теперь ясно стало, что проем нужен — в узких сенях не развернуться с гробом.
Степан Кузьмич и Матвей при свете переноски протянули два раза пилой до пола, выставили бревнышки — пусть Ефимья по-людски войдет в дом, чтобы отправиться из него в свой последний путь.
Гроб установили на столе в передней комнате. Лукьяныч сел рядом на табуретку. Кирилл замер около него. Степан Кузьмич и Матвей оставили их одних у гроба.
Лукьяныч за один день осунулся так, будто месяц не поднимался с постели. Глядя на него, Кирилл острей и глубже осознавал утрату и со страхом думал, достанет ли сил у Лукьяныча перемочь такое горе. Не стало Ефимьи, и ни к чему этот дом, ни к чему огород, капуста эта ни к чему — некому отказать, никому не нужно… Вдвоем старики еще поддерживали очаг, сохраняли видимость большой семьи. Один Лукьяныч не потянет… Кирилл тихонько вышел в сени, прислонился к проему в стенке. «Все — прахом? — думал он растерянно. — Никакой отметки после себя?..»
За углом в темноте приглушенно гудели голоса — Степан Кузьмич и Матвей были там на крылечке.
— …хотели уводить коровенку уж, и она на себя взяла тогда половину налога, — говорил Степан Кузьмич. — Не умеем мы сказать человеку в глаза добрых слов… А теперь кому скажешь?
После молчания Матвей промолвил:
— Думаешь, живет человек и живет…
И снова молчание.
Кирилл догадался, о чем речь шла: в войну Ефимья Ивановна была председателем сельсовета, помогала бабам-красноармейкам. Помнят… Кирилл переступил с ноги на ногу, под ногой хрустнула щепка.
— Кирилл Андреич? — спросил Матвей и, не дождавшись ответа, подошел.
Степан Кузьмич тоже приблизился, тронул Кирилла за плечо, хотел что-то сказать, но не сказал, вздохнул только.
— Спасибо, Степан Кузьмич.
— За что там…
— Спасибо…
Кирилл попрощался за руку с ним и с Матвеем Самопаловым.
Похороны были назначены на вторник. Все эти дни в доме и во дворе Пастуховых толпились люди. Коля слонялся между ними неприкаянным. Скучно: приходят, постоят молчком простоволосые и уходят. Одни сменяют других. Из-за них и Коле никакого внимания. Коля пробрался к дедушке — он сидел неподвижно у изголовья гроба.
— Деда, а что они все идут и идут?
Он ожидал, что дедушка распорядится, как прежде, и все станет, как всегда… Но дедушка, непривычно робкий, положил трясущуюся руку ему на голову:
— Идут, внучек, идут, отдают последний долг.
Коля направился от дедушки вдоль стенки к двери и приступил на недовязанный носок, оброненный в сутолоке на пол. Довязать-то здесь пустяк — и готовый будет. Коля отнес носок матери, выговаривая по-дедушкиному резко:
— Валяется под ногами!
Мать протянула руку и в который раз без звука осела. На Колю зашикали. Из горницы выскочила медсестра со шприцем — делать укол.
Во дворе Коля увидел отца.
— Пап, ну давай хоронить. Где ты все пропадаешь?
— Все, сынок, — сказал устало Кирилл. — Будем хоронить.
Шестеро человек вынесли на полотенцах гроб с бабушкой. Медсестра сопровождала мать, старухи вели под руки бабу Машу, которая вдруг ослабла так, что ноги перестали двигаться. Дедушка шел сам. Он был одет в полушубок, высокий воротник, в котором утонула голова, подвязан Колиным шарфом узлом на груди. Коля решил, что дедушка нуждается в помощи, и взял его за руку.
За воротами процессия выровнялась. Заняли свои места оркестр и машина с опущенными бортами, обтянутыми красной материей, — на ней стоял памятник с латунной звездой. Встроилась и санитарная машина — сразу за гробом. Когда процессия тронулась и вновь заиграл оркестр, в машину, Коля видел, внесли маму.
Шли медленно и долго. Кладбище, когда-то бывшее за селом, теперь располагалось чуть не в центре — в березовой роще над логом. Коля время от времени отлучался — забегал в голову процессии или задерживался до конца ее. Возвратившись, он шептал дедушке, что обратно они поедут на машинах — сзади пять грузовиков движутся следом и совхозный автобус. А то говорил:
— Венков-то, дедушка, сколько! Наши там, потом от сельсовета, от станции, от депо, еще от школы, от совхоза, от маслозавода, еще другие…
Или спрашивал:
— А правда, бабушкина капуста лучше всех? Там говорят, что не будет больше такой капусты.
— Не будет, — соглашался дедушка. — Много чего теперь не будет.
У могилы Коля с дедушкой остановились перед самым гробом. Дедушка смотрел и смотрел на гроб, на бабушку в нем, на лицо ее с добрыми морщинками и ничего другого не видел, ничего не слышал. А Коля видел, как подрагивает у дедушки бородка над шарфом, замечал, как хватает ртом воздух баба Маша, слышал, как выступают над гробом люди и что говорят. Много было сказано такого, о чем Коля и не подумал бы никогда. Бабушка была для него бабушкой, доброй и ласковой, что-нибудь вкусненькое припасала для него, вязала теплые носки и варежки. А тут называют ее беспартийным коммунистом и даже героем. Один старичок, постарее даже дедушки, так и сказал:
— Прощай, безымянный герой наш, Ефимья Ивановна! Вечная память тебе!
Коля затеребил дедушку:
— Что он говорит, деда? А, деда? Ну кто же наша бабушка?
— Ну кто? — неохотно отозвался дедушка. — Человек она.
— А почему тогда безымянный герой?
— Герой? — дедушка удивленно посмотрел на Колю, стиснул его руку, повернулся с ним к людям: — Я скажу, почему!
— Люди! — вдруг тоненько вскрикнул он.
Сотни пар глаз смотрели на них. Коля никогда не видел сразу столько добрых, сочувствующих, ждущих глаз. Ему стало горячо в голове, чуть из памяти не вышел. Потом он стал смотреть на дедушку, стал напряженно ждать, что он скажет.
— Лю-юди! — повторил дедушка еще громче и тихо проговорил: — Ушла от нас Ефимья…
Кто-то всхлипнул в тишине.
— Не сме-еть! — дедушка даже ногой топнул. — Не сметь плакать… Я скажу, кто она такая есть… — он сглотил комок, подступивший к горлу, закашлялся.
Вдруг послышался робкий голос:
— Не надо, Лукьяныч, а?..
Еще несколько голосов:
— Не надо бы…
— Мы знаем, Лукьяныч.
— Чего там…
Дедушка зажмурил глаза, по морщинкам у носа покатились слезы на бороду. И Коля заплакал. Смотрел на дедушку и плакал тоже без голоса, одними слезами — они сами текли и текли. Ему стало очень жалко бабушку, и дедушку жалко стало, и обидно было, что все знают, кто она такая, бабушка его, а он, родной внук, не знает еще.
Доверие
Л. М.
Порожний КрАЗ громыхал по дороге, как консервная банка. От напряжения у Нади немели спина и ноги. Взгляд цеплялся за гладь асфальта с надеждой, что тело расслабится, но машина и на ровном месте жестко встряхивалась. Надя снова судорожно прижимала ногами резиновый коврик, с которого не переставала клубиться пыль, спиной упиралась в скрипучие пружины сиденья и недружелюбно взглядывала на шофера Ваню Зуева, будто он нарочно устроил ей такую тряску. Ваня невозмутимо покачивался за рулем, лениво посматривая по сторонам, и руки его, казалось, отдыхали на баранке, которая вроде бы сама по себе беспрерывно покручивалась. Хоть бы уж помолчал до завода — надоела его болтовня: весь день развлекал на станции публику и в дороге не унимался, хотя Надя демонстративно не слушала его. Парень как парень, когда молчит, ничем не хуже других шоферов, но в том то и дело, что молчать он не умеет. Откуда только что берется? Верить его рассказам, так он дружит с министрами, ездит по заграницам и не полетел на Венеру лишь потому, что дали короткий отпуск — не обернуться в два конца. И не подумает, что у человека может быть свое настроение далеко не шутливое и не такое беззаботное.
Товарный двор станции отдалялся вместе с заботами дня. Еще час назад для Нади не было важнее дела, чем сдать на станцию груз, и тревожилась она только о том, чтобы не пришлось везти изделия обратно на завод. Теперь возбуждение, порожденное большой очередью, поломкой крана и беззаботностью Вани Зуева, улеглось и отставало где-то по дороге, как пыль за машиной, и прожитый в ожидании день представлялся нескладно куцым. Раньше половины восьмого на завод уже никак не успеть. Сергей наверняка не будет ждать ее столько времени. Утром в сутолоке поговорить толком не удалось. Сказал, что везет продукты в пионерский лагерь и что новоселье назначено на завтра… «Готовься, — сказал из кабины, отъезжая от гаража. — Это дело мы реализуем! Вся родня соберется…» Огорошил — и нет его. С утра в Наде жила надежда застать Сергея в гараже после работы и узнать подробности о завтрашнем новоселье, а за ней накапливались заботы, мелкие сами по себе, но очень важные в свое время — выбрать соответствующее платье, сделать утром прическу и маникюр… Когда они подступили к Наде вплотную, то обнаружилось, что ее нарядные платья могут не прийтись по вкусу родителям Сергея — слишком открытые и короткие. Надя остановила выбор на белом шерстяном платье, но и над ним придется посидеть вечером. Пожалуй, хорошо бы купить к нему керамическую брошку, как у Ларисы из отдела сбыта…