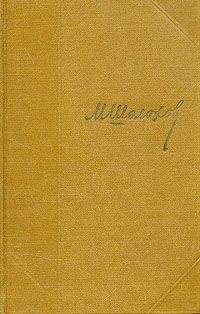Александр Серафимович - Том 7. Рассказы, очерки. Статьи. Письма
– Вот что, Степанов, оденьтесь рабочим. Проберитесь на Покровку. Вот адрес. Узнайте подробно о девице, которая у нас сидит.
Степанов пошел, надел пальто с кровавой дырочкой на груди, – только что снял с убитого рабочего. Надел его штаны, рваные сапоги, шапку и в сумерки отправился на Покровку.
Там ему сказал какой-то рыжий лохматый гражданин, странно играя глазами:
– Да, живет во втором номере какая-то. С сестренкой маленькой. Буржуйка чертова.
– Где она сейчас?
– Да вот с утра нету. Арестовали поди. Дочь штабс-капитана, это уж язва… А вам зачем она?
– Да тут ейная прислуга была из одной деревни с нами. Так повидать хотел. Прощевайте!
Ночью, вернувшись с постов, юнкера окружили сероглазую девушку живейшим вниманием. Достали пирожного, конфет. Один стал бойко играть на рояле; другой, склонив колено, смеясь, подал букет.
– Разнесем всю эту хамскую орду. Мы им хорошо насыпали. А завтра ночью ударим от Смоленского рынка так, только перья посыпятся.
Утром ее повели в лазарет на перевязки.
Когда проходили мимо белой стены, в глаза бросилось: у стены, в розовой ситцевой рубашке, с откинутой головой лежал рабочий – сапоги в грязи, подошвы протоптаны, над левым глазом темная дырочка.
– Шпион! – бросил юнкер, проходя и не взглянув. – Поймали.
Девушка целый день работала в лазарете мягко и ловко, и раненые благодарно глядели в ее серые, темно-запушенные глаза.
– Спасибо, сестрица.
На вторую ночь отпросилась домой.
– Да куда вы? Помилуйте, ведь опасно. Теперь за каждым углом караулят. Как из нашей зоны выйдете, сейчас вас схватят хамы, а то и подстрелят без разговору.
– Я им документы покажу, я – мирная. Я не могу. Там сестренка. Бог знает что с ней. Душа изболелась…
– Ну да, маленькая сестра. Это, конечно, так. Но я вам дам двух юнкеров, проводят.
– Нет, нет, нет… – испуганно протянула руки, – я одна… я одна… Я ничего не боюсь.
Тот пристально посмотрел.
– Н-да… Ну, что ж!.. Идите.
«Розовая рубашка, над глазом темная дырка… голова откинута…»
Девушка вышла из ворот и сразу погрузилась в океан тьмы, – ни черточки, ни намека, ни звука.
Она пошла наискось от училища через Арбатскую площадь к Арбатским воротам. С нею шел маленький круг тьмы, в котором она различала свою фигуру. Больше ничего – она одна на всем свете.
Не было страха. Только внутри все напрягалось.
В детстве, бывало, заберется к отцу, когда он уйдет, снимет с ковра над кроватью гитару, усядется с ногами и начинает потинькивать струною, и все подтягивает колышек, – и все тоньше, все выше струнная жалоба, все невыносимей. Тонкой, в сердце впивающейся судорогой – ти-ти-ти-и… Ай, лопнет, не выдержит… И мурашки бегут по спине, а на маленьком лбу бисеринки… И это доставляло потрясающее, ни с чем не сравнимое наслаждение.
Так шла в темноте, и не было страха, и все повышалось тоненько: ти-ти-ти-и… И смутно различала свою темную фигуру.
И вдруг протянула руку – стена дома. Ужас разлился расслабляющей истомой по всему телу, и бисеринками, как тогда, в детстве, выступил пот. Стена дома, а тут должна быть решетка бульвара. Значит, потерялась. Ну, что ж такое, – сейчас найдет направление. А зубы стучали неудержимой внутренней дрожью. Кто-то насмешливо наклонялся и шептал:
– Так ведь это ж начало конца… Не понимаешь?.. Ты думаешь, только заблудилась, а это нач…
Она нечеловеческим усилием распутывает: справа Знаменка, слева бульвар… Она, очевидно, взяла между ними. Протянула руки – столб. Телеграфный? С бьющимся сердцем опустилась на колени, пошарила по земле, пальцы ткнулись в холодное мокрое железо… Решетка, бульвар. Разом свалилась тяжесть. Она спокойно поднялась и… задрожала. Все шевелилось кругом – смутно, неясно, теряясь, снова возникая. Все шевелилось: и здания, и стены, и деревья. Трамвайные мачты, рельсы шевелились, кроваво-красные в кроваво-красной тьме. И тьма шевелилась, мутно-красная. И тучи, низко свесившись, полыхали, кровавые.
Она шла туда, откуда лилось это молчаливое полыхание. Шла к Никитским воротам. Странно, почему ее до сих пор никто не окликнул, не остановил. В черноте ворот, подъездов, углов – знает – затаились дозоры, не спускают с нее глаз. Она вся на виду; идет, облитая красным полыханием, идет среди полыхающего.
Спокойно идет, зажимая в одной руке пропуск белых, в другой – красных. Кто окликнет, тому и покажет соответствующий пропуск. Кругом пусто, только без устали траурно-красное немое полыхание. На Никитской чудовищно бушевало. Разъяренные языки вонзались в багрово-низкие тучи, по которым бушевали клубы багрового дыма. Громадный дом насквозь светился раскаленным ослепительным светом. И в этом ослепительном раскалении все, безумно дрожа, бешено неслось в тучи; только, как черный скелет, неподвижно чернели балки, рельсы, стены. И все так же исступленно светились сквозные окна.
К тучам неслись искры хвостатой красной птицы, треск и непрерывный раскаленный шепот – шепот, который покрывал собою все кругом.
Девушка обернулась. Город тонул во мраке. Город с бесчисленными зданиями, колокольнями, площадями, скверами, театрами, публичными домами – исчез. Стояла громада мрака.
И в этой необъятности – молчание, и в молчании – затаенность: вот-вот разразится, чему нет имени. Но стояло молчание, и в молчании – ожидание. И девушке стало жутко.
Нестерпимо обдавало зноем. Она пошла наискось.
И как только дошла до темного угла, выдвинулась приземистая фигура и на штыке заиграл отблеск.
– Куды?! Кто такая?
Она остановилась и поглядела. Забыла, в которой руке какой пропуск. Секунда колебания тянулась. Дуло поднялось в уровень груди.
Что ж это?! Хотела протянуть правую и неожиданно для себя протянула судорожно левую руку и разжала.
В ней лежал юнкерский пропуск.
Он отставил винтовку и неуклюже, неслушающимися пальцами стал расправлять. Она задрожала мелкой, никогда не испытанной дрожью. С треском позади вырвался из пожарища сноп искр, судорожно осветив… На корявой ладони лежал юнкерский пропуск… кверху ногами…
«Уфф, т-ты… неграмотный!»
– На.
Она зажала проклятую бумажку.
– Куда идешь? – вдогонку ей.
– В штаб… в Совет.
– Переулком ступай, а то цокнут.
…В штабе ее встретили внимательно: сведения были очень ценные. Все приветливо заговаривали с ней, расспрашивали. В кожанке, с чахоточным лицом, ласково ей улыбался.
– Ну, молодец девка! Смотри только, не сорвись…
В сумерки, когда стрельба стала стихать, она опять пошла на Арбат. В лазарет все подвозили и подвозили раненых из района. Атака юнкеров от Смоленского рынка была отбита: они понесли урон.
Целую ночь девушка с измученным, осунувшимся лицом перевязывала, поила, поправляла бинты, и раненые благодарно следили за ней глазами. На рассвете в лазарет ворвался юнкер, без шапки, в рабочем костюме, взъерошенный, с искаженным лицом.
Он подскочил к девушке:
– Вот… эта… потаскуха… продала…
Она отшатнулась, бледная как полотно, потом лицо залила смертельная краска, и она закричала:
– Вы… вы рабочих убиваете! Они рвутся из страшной доли… У меня… я не умею оружием, вот я вас убивала…
Ее вывели к белой стене, и она послушно легла с двумя пулями в сердце на то место, где лежал рабочий в ситцевой рубашке. И пока не увезли ее, серые опушенные глаза непрерывно смотрели в октябрьское суровое и грозное небо.
Адимей*
Века шло одно и то же: курились вершины дымными облаками, блестели на солнце вечные снега и, утопая в чудовищной траве, бродил у снегов скот и лошади. Далеко внизу в ущельях безумно грохотали реки. В дымных, топившихся по-черному, кошах жили на горах люди все лето семьями. В конце лета снега заваливали горы сплошь, – и семьи, и стада, и лошади спускались вниз в ущелья, где в пене и грохоте гнали валуны бешеные реки.
Дымились аулы, и медленно текла в них скудная, темная, но родная жизнь. Белоголовые дремучие горы загораживали все, что делалось на свете. Да и вся жизнь, весь «свет» был здесь в этих извечных громадах, в этих дремучих лесах, в смертельных пропастях, в день и ночь грохочущих потоках.
Только немногие вырывались из заколдованного царства скал, ущелий, лесов и снегов: вырывались те, кого помещики выписывали в Россию охранять имения. И они жестоко пороли крестьян плетьми, рубили кинжалами, стреляли из винтовок, со страстью, с презрением, потому что это был ненавистный «урус». Страж не разбирался – и драл отрепанных и босых крестьян, как врагов.
Да еще бандиты умели вырываться из заколдованного мира гор. Смело налетали в равнинах на станицы, хутора и села, а иногда нагло врывались даже в города, рубили и грабили.