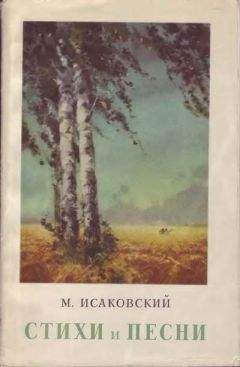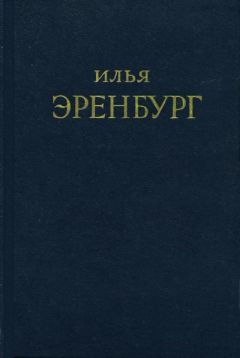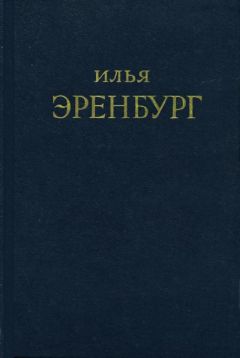Фёдор Гладков - Вольница
Ни отец, ни мужик, ни Ульяна не слушали его, не слушала, казалось, и учительница, но, не отрываясь от толстой книги, с затаённой улыбкой поглядывала на него исподлобья. Мать уставилась на него сияющими глазами и жадно слушала его.
— Гляжу я на тебя, дедушка, и думаю: везде-то ты был, весь-то свет исходил…
Старичок подмигнул ей, и бородёнка его затряслась от смеха.
— Мне вот шесть десятков, а ножки — крепенькие. Всю Россию исходил, все пути-дорожки измерил. И у моря холодного был, и в Сибири был, и горы Капказские измерил, и на море Хвалынское каждый годок, как птица, перелетаю. Человеку негоже к одному месту прикипать: у него дух крылат, он умом богат. Много ему на свете дано, а лет жизни мало: успей, человече, всё переглядеть да передумать. Кто есть на земле счастливей человека? Никого.
Очевидно, он мог говорить, не умолкая, целый день, словно не в силах был сдержать своих волнений и удивления перед тем, что видел.
Отцу он не нравился, и недоверие к нему не угасало. А мужик глядел на Онисима и кряхтел от смутного беспокойства. Отец не вытерпел и язвительно спросил Онисима:
— А ты, дедушка, работал когда-нибудь аль только одно и делал, что бродяжил?
Старичок не обиделся и охотно, доверчиво ответил:
— Без труда человек — не человек, а червь.
— А какое у тебя рукомёсло-то?
— Я, дружок мой, все ремёсла знаю, во всяком деле силы свои испробовал: и швец, и жнец, и на дуде игрец… А сейчас время приспело — на рыбные ватаги плыву: икру готовить. Там я — икряник, в полях — бахчевник, в городах — столарь, а в деревнях — шерстобит. Люблю поющую струну и волны морские.
Учительница отложила книгу и улыбнулась старику.
— Ты что же это, Онисим, и признавать меня не хочешь?
— Ай-яй-яй! Голубка моя сизокрылая! Варварушка! Как же это я, слепой сыч, не приметил тебя? Ай-яй, побелела-то как! Ведь я тебя, орлица моя, чай, годов десять не видал.
Он бойко вскочил и бросился к ней, досадливо качая жидковолосой головой и хлопая руками по бёдрам.
Но учительница спокойно, с насмешливой улыбкой осматривала его с головы до ног и журила:
— Не изменился ты, Онисим: такой же говорун и непоседа. За эти годы, должно быть, всю Россию изъездил.
— Я, Варварушка, и в могилу упаду походя. Некие люди совестят: «Покой своей старости дай, Онисим!..» Человек, говорю, не чурбан, чтобы лежать да гнить. Он, человек-то, ещё в утробе матери беспокоен. Покой для покойников. А ведь я каждый день солнышко встречаю.
Учительница встала, и они пошли по узкому проходу, за вороха клади, оба сухонькие, маленькие, странные.
Мужик захохотал.
— Чудеса в решете… Народ-то какой распорядительный! Хозявы!
Отец убежденно подтвердил:
— Незаконный народ. Он — еретик, всему отрицается, а она — средь людей чужая. Не иначе, барских кровей. От таких народов держись дальше да оглядывайся.
— Заковыристый народ, верно, — поразился мужик и опять захохотал.
Мать смотрела куда-то вдаль и будто думала вслух:
— Люди-то… как неправдашные… как с того света. И кто знает, что мы только с тобой, сыночек, увидим…
Оглушительный, до боли в ушах, до дрожи в теле, заревел гудок парохода — ревел долго, и этот рёв поглотил и грохот тяжестей, и крики людей, и шум суматохи.
И когда он умолк, сразу зазвенела в ушах тишина, и я некоторое время чувствовал себя в пустоте. Вдруг где-то недалеко завизжали девки, кто-то разудало закричал и заругался. И сразу же залилась звонким, чистым, разливным перебором гармония с колокольчиками.
Явился Миколай, хмельной, с задранным картузом, с осовелой ухмылкой. Пришёл он под руку с приземистым парнем с закрученными усишками, с маленькими колючими глазами. Грязная рубаха его была заправлена в брюки, а на ногах — опорки.
— Вася! — развязно закричал Миколай. — Плыви один, я здесь остаюсь. Где мои багажи? Дружков закадычных встретил — сто сот стоят. На мельницу Шмита поступаю, низовым. Работа чортова: мешки таскать. Зато и заработаешь… Вот он, мой старый товарищ. Не гляди, что он малорослый: мешки, как варежки, бросает, а вино порет стаканами.
Они забрали сундучок и пузатый мешок Миколая и ушли, пьяно ухмыляясь. Отец встретил и проводил их молча, с холодным презрением в глазах.
— Пропащий народ. Шарлоты. Такие в два счёта карманы очистят. Им бы только трактир, да притон, да драки. Сразу видно, что дружок-то — золоторотец.
Мать радостно вздохнула.
— Вот уж добро какое — ушёл! Словно камень с плеч свалился.
Мужик гулко засмеялся.
— Бесшабашная братия! Доки! Завей горе верёвочкой… Бабу-то он в деревне бросил, что ли?
— А зачем ему баба? Этого добра и тут много.
Мужик крякнул и закрутил головой.
Я начал вслух читать свою нарядную книгу. Мать прильнула ко мне и стала слушать с изумлённой улыбкой.
II
В первые часы я не мог подняться с места: чувствовал себя ничтожной пылинкой в этой густой свалке узлов, тюков, ящиков и в людской суматохе. Люди сидели и лежали, срастаясь плечами, спинами, ногами, прибитые к своей рухляди. По узкому проходу между стенкой машинного отделения и служебными каютами непрерывно проходили один за другим и навстречу друг другу матросы в кожаных картузах, какое-то начальство в белых кителях, с сердитыми лицами, и пассажиры с жестяными чайниками в руках.
За стенкой грохотали и пыхтели машины, и с каждым их вздохом пароход тяжело и плавно толкала вперёд какая-то огромная сила. Он мне казался живым: он дышал, сопел, вздрагивал, напрягался и время от времени покрикивал кому-то: э-эй! Я отважился вскарабкаться на рогожный тюк и взглянуть в нутро машинного отделения, вцепившись в медную решётку окна. Внизу, в огромной яме, взмахивали сверкающие серебром страшенные, сокрушительно тяжёлые рычаги, похожие на богатырские руки с крепко сжатыми кулаками. Они вцепились в такие же блестящие и пугающе толстые валы и вертели их с грозным напряжением. И когда я увидел глубоко внизу малюсенького человечка в синей блузе, с паклей в руках, мне стало жутко: как он, такой беспомощный, может ходить спокойно среди этих страшилищ и не бояться их убийственных взмахов? Так стоял я долго, заколдованный горячим, невыносимо могучим движением, таким неотразимым и лёгким, не чувствуя себя, позабыв обо всём на свете. Это было чудо, прекрасное, подавляющее, пленительное и таинственное. Когда меня оторвал от этого зрелища отец, я сразу почувствовал себя изнурённым и разбитым.
— Пойдём, сынок, по пароходу прогуляемся. Волгу поглядим.
Мать вязала чулок и невнятно разговаривала с Ульяной, а Ульяна попрежнему качалась вперёд и назад с ребёнком на руках. Ребёнок иногда слабенько и жалобно покрикивал — вероятно, был болен.
Старичок свернулся калачиком и спал похрапывая. Коричневое обветренное лицо его и во сне усмехалось лукаво. Серая реденькая бородка казалась лишней и смешной. Мужик тоже спал, уткнувшись лицом в свёрнутую поддёвку. Длинные ноги в лаптях он протянул через проход и, должно быть, не слышал, когда матросы пинали его сапогами. Учительница попрежнему сидела, низко склонившись над толстой книгой.
Мы прошли через просторную площадку, которую мыли матросы странными мётлами из целого снопа тоненьких верёвок. Они подходили к борту, бросали метлу на бечёвке в реку и вынимали её, жирную от воды. И опять шли мы по узенькому проходу. Но здесь люди уже не валялись на полу, а громоздились на двухэтажных нарах.
— Нам бы вот тут ехать-то, — робко сказал я отцу. — Тут хорошо, просторно. И столы есть.
Отец мягко и охотно разъяснил:
— Дурачок, это третий класс, а мы в четвёртом. Тут за места дороже платить надо. А первый да второй — наверху. Там господа едут, купцы да дворяне.
— А нам туда можно… погулять-то?
— Туда нас не пускают. Господа брезгуют, когда к ним поднимается чернядь.
Это меня не удивило и не обидело — ведь и у нас в деревне так же: мужиков на барском дворе в дом не пускали, с ними разговаривали с крыльца, а мужики должны были стоять и в дождь и в снег перед крыльцом без шапок. Мы, мужики, «чернядь», обязаны знать своё место. Начальство в белых кителях может орать на нас, как на баранов. К этому мы привыкли и принимали за должное. Значит, везде одинаково: господа и богатеи — наверху. У них и одежда, и лица иные; это люди не нашей породы, как существа другой, неизвестной мне жизни — и тело другого цвета, и походка странная — зыбкая, кошачья, и речь особая, и пахнет от них приятным духом. Они вызывали во мне и страх, и жадное любопытство, и удивление, и бессознательную враждебность.
Хотя народу на корме тоже было много, здесь всё же открывалось воздушное приволье. Предвечернее небо дымилось лиловой пылью, а пепельные спокойные облачка далеко, над луговой стороной, над синими перелесками, длинные, разорванные по краям, казались усталыми и грустными. Над кормой, на короткой мачте, подвешена была белая лодка вниз носом, и она казалась очень лёгкой и красивой. Река, разливная, широкая, блистала зеркалом, и низкий берег слева мерцал песком и яркой зеленью травы. А за кормой рыжей пеной кипели водовороты и уплывали назад, вздымаясь и ныряя в глубоких волнах. И вправо и влево эти волны широко и густо расходились во все стороны, блистали небом и тёмной глубиной. Высокие глинистые и известковые обрывы правого берега отражались в сияющей глади реки оранжевыми струями, а ближе и дальше рвались в плывущих к берегу волнах на пылающие клочья и вихри. Над пенистыми волнами летали розовыми вихрями чайки, падали на волны и, едва касаясь кипящей воды, трепетали крыльями, торопливо взлетали вверх с жалобными криками. Поражённый, я не отрывал глаз от этой невиданной красоты и забыл обо всём. Время от времени пароход раздольно вскрикивал встречному пароходу: э-эй!.. Этот задорный крик разносился всюду по широкому простору реки, и чудилось, что и высокие обрывы, и зелёные ущелья, и эти густые, масленистые волны далеко за кормой поют протяжную и разливную песню.