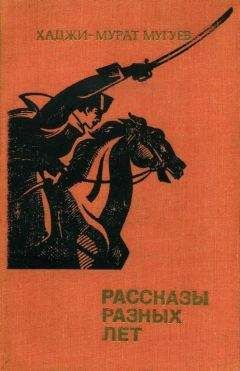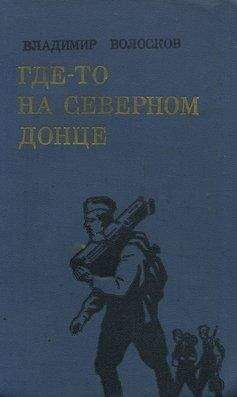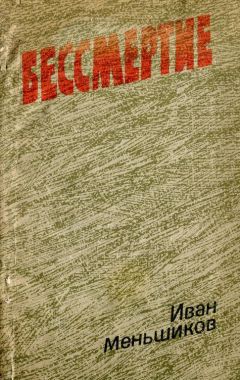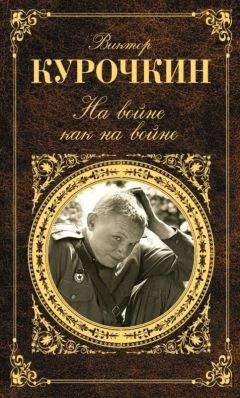Василий Оглоблин - Кукушкины слезы
Из дальнего угла послышался злой голос:
— Я живой, мать их растуды и об землю...
— Еще?
В вагоне стало тихо, так тихо, что Егорову показалось, будто он оглох, словно после контузии.
— Да, маловато. Тридцать два человека убежали, трое живых, шестьдесят три товарища погибли.
— Шестьдесят пять, товарищ комиссар, нас же было сто.
— Шестьдесят три, — в голосе комиссара послушалось раздражение, — предатели и трусы в счет не идут.
Помолчали. Прислушались. Свистел, врываясь в щель встречный ветер. Постукивали колеса. Светало. В раскрытом квадрате люка начал появляться слабый утренний полусвет. Кружилась от голода ли, или от всего пережитого голова. Егоров удивлялся: опять уцелел, надолго ли, нет ли?
Глава седьмая
Сильного в беде всегда тянет к сильному, а живого к живому. Как только истаяли в утренней тишине пьяные голоса солдат, в вагоне ободняло и поезд начал набирать ход, к Егорову подсел третий уцелевший парень. Был он еще совсем молод, высок ростом, белокур, с большими руками потомственного хлебопашца. Заговорил торопливо, часто озираясь на задремавшего в углу комиссара:
— Чо станем делать, браток? Положение у нас теперь аховое. В Германию этот груз, — он показал рукой на мертвых, — они не повезут, выгрузят где-то по дороге. Давай прикинемся мертвыми. А? Чо молчишь?
— Будь что будет. Снявши голову, по волосам не плачут. Бежать надо. Тут мы ничего не высидим.
— Куда побежишь теперь? Светло уже. А в тамбуре — слышь — голоса. Их там двое, либо трое сидят. Они теперь начеку. Глядят в оба. Кабы до следующей ночи дожить. Ночью убежали бы. Те, что убегли, идут теперь где-то, к своим пробираются. Пофартило.
Парень умолк на минуту. Повздыхал, повздыхал и зашептал снова, горячо дыша прямо в лицо Егорову:
— Послушай, а тебе не страшно с мертвяками-то рядом сидеть?
— Мертвый не тронет. Он безобидный. Живых надо бояться.
— Ну, не тронет, только страшно...
— И я и ты могли бы быть мертвыми. Чего нас бояться?
— Нас-то бояться нечего, а они ведь мертвые...
— Да помолчи ты. Думай больше.
— Пошто молчать, паря? Как звать-то тебя? Меня Василием зовут. Из Сибири я. Давай на пару бежать, все сподручнее будет, а?
— Почему на пару? А комиссар? Зовут меня Алексеем.
— Вот и ладно, Леш, все вместе и побежим, с комиссаром-то оно вернее... У него ума-то не с наше...
— У тебя, видать, слово в зубах не завязнет, — огрызнулся Егоров.
Парень насупился. Обиженно опустил глаза и умолк.
От длительного сиденья в одном положении тело у Алексея затекло. Он встал и, осторожно перешагивая через убитых, пробрался к открытому люку. В лицо освежающе дунуло утренней сыростью, прелым запахом мокрой земли. За насыпью понуро тянулась однообразная плоская равнина, испятнанная узкими длинными полосками полей. Проплыл убогий хуторок с тощими, общипанными хатенками, густо прилипшими к бурой, запепелившейся земле. К дороге вплотную подбегали нестройными рядами побуревшие, облупившиеся будылья подсолнухов и отставали. Вдали зыбуче покачивался чахлый, насквозь просматриваемый лесок. Провожая глазами убожество и нищету земли, Егоров догадался, что они едут по Польше, скоро будет Восточная Пруссия. «Надо что-то предпринимать, — думал он, — далеко уже увезли».
Поезд шел и шел. Бурые космы дыма клубились и рвались за люком, обдавая Алексея гаром; почти не умолкая плакала губная гармоника. «Радуется, гад, что с родной сторонкой встретится скоро, что еще живой, — подумал Егоров, — душа наружу рвется».
Алексей вернулся на свое место и сел. Комиссар по-прежнему дремал. Сосед заметно оживился. Его крупное скуластое лицо расплылось в улыбке, в глазах сверкнула робкая надежда.
— А знаешь, я думал, думал и додумался: мертвых они стаскивать не станут, они им для отчета нужны. Понял? Вишь, прут без остановки. Доживем до темноты — убежим. Ага? Чтой-то комиссар долго дремлет? Пусть себе подремлет, старый уже, притомился от такого-то кошмара...
— Погоди, не шуми. Забылся он.
— Ага, подождем малость.
Оптимизм сибиряка понравился Егорову, и он сказал дружелюбно, подражая ему:
— Убежим, паря, убежим.
А про себя подумал: «Удивительный все же русский человек. Сидит вот сибирский парень рядом с мертвыми, думает о жизни, даже способен улыбаться и пожалеть старшего товарища: «Притомился, пусть отдохнет от такого кошмара», — и лицо спокойное, кажется, равнодушное ко всему, что происходит вокруг...»
— А от ребят-то, паря, вроде дух дурной пошел?
— Не придумывай. Рано еще духу-то идти.
— А вроде бы уже и воняет.
— То тебе так кажется.
— Может, и кажется...
Он что-то хотел сказать еще, но вдруг весь напружинился, подался туловищем вперед, прислушался.
— Леш, а поезд-то сбавляет ход, неуж остановка? А?
— Да, останавливаемся.
Оба замерли.
— Лезем под мертвых... И комиссара мертвяками прикрыть бы.
Взвизгнули пронзительно тормоза. Поезд остановился. В квадрате люка видны были какие-то высокие кирпичные постройки, трубы, весь его разлиновали толстые обвислые провода. За стенкой послышался топот, отрывистые голоса.
— Пропали, братан, выгружать станут.
Егоров подполз к комиссару. Он сидел в прежней позе, откинув седой ершик к стенке и скрестив руки на груди. На худом темном лице застыла презрительная улыбка.
— Вася, а ведь комиссар-то умер. — Егоров нащупал его руку. Она была холодной. — Помер комиссар, и прикрывать его уже не надо. Теперь нас осталось двое, Вася.
— Гляди-ко, видно, раненый был, а не стонал ни разу...
Эшелон стоял долго. Мимо вагона несколько раз проходили солдаты, громко разговаривая. Каждый раз они стучали автоматами в стенку вагона и хохотали:
— Руссише риндфлейш[5].
— Найн, руссише кальбсбратен[6].
— Найн, руссише шинкен...[7]
И ржали раскатисто в несколько глоток.
— Я, я, руссише кальбсбратен...
Лоскут неба в квадрате люка становился все синее, постепенно наливаясь чернотой.
— Леша, а ведь уже вечереет, скоро ночь, как стемнеет — выгружать начнут убитых.
— Прикинемся мертвыми. В темноте не разберут.
Но поезд тронулся. И Егоров с сибиряком облегченно вздохнули.
Теперь эшелон шел мимо столбов, труб, платформ; всюду перемигивались и скрещивались неяркие огоньки, бежали вдогонку хриплые звуки, скрежет, лязг.
Сибиряк забеспокоился, подбежал к окну.
— Опять, братан, неладно, по городу едем, а бежать время, ждать некогда, может, они в морг вагон загоняют.
— Давай? — спокойно, как тогда в самолете перед прыжками, сказал Егоров и решительно шагнул к люку. — Не задерживайся, прыгай следом за мной.
Он поджался на руках, выбросил ноги в люк, напружинился, закрыл глаза и разжал пальцы. В уши хлестнул тугой ветер, откинул его назад, на срез насыпи. Падая под откос, Алексей дважды перевернулся и уткнулся носом в гравий. Сел, растер ладонями сильно ушибленное колено, вытер с лица грязь и кровь. Вверху, на насыпи, простучал и мигнул красным фонарем последний вагон. Эшелон ушел.
Алексей встал и поковылял, сильно припадая на ушибленную ногу. Пройдя шагов сто, он легким свистом позвал товарища. Тот отозвался впереди. Они сошлись и, прислушиваясь и озираясь, пошли по нахохлившемуся лесу.
— Чудеса, да и только, — бурчал сибиряк. — Ехали по городу, а оказались в лесу. Как оно у них так-то?
Но не успели пройти и сотни шагов, как Егоров натолкнулся на высокий каменный крест, споткнулся за плиту, упал, чертыхаясь, в низкорослые кусты.
— Фу ты, чертовщина какая, это, сибирячок, не лес, а кладбище. Кладбища-то у них бывают в самом центре города, а не на отшибе, как у нас.
— И право, погост, гля, кресты кругом. А вон и лампада горит. Опять к покойникам попали, везет нам на мертвяков.
Они сели на влажную могильную плиту, стали вслушиваться в тишину и всматриваться в ночной мрак. Над чужим городом висела черная тревожная ночь. Эту затаившуюся черноту из конца в конец вспарывали длинные молнии, сквозь чащу кладбищенского леса изредка проклевывались редкие огоньки, доносился глухой перекатывающийся гул.
— Гроза, что ли, надвигается? — спросил Василий. — У их ведь все не по-русски, может, и грозы в начале весны бывают? А?
— Это, сибиряк, не гроза. Это самолеты приближаются наши, вот немчура и встревожилась. Скоро сабантуй будет. Знаешь, что такое сабантуй?
В разных концах города лихорадочно завыли сирены, брызнули в провалившееся небо жидкие снопики прожекторов, вразнобой, слоено зазевавшиеся собаки, затявкали зенитки.
— Налет, — возбужденно сказал Егоров, — вот-вот начнется, слышь, как небо содрогается, волнами идут, армада. Покажут кузькину .мать...