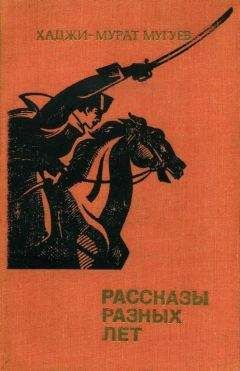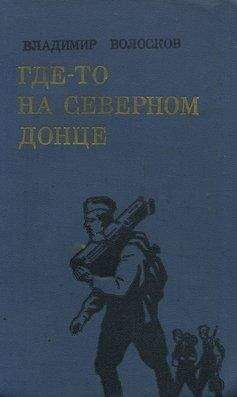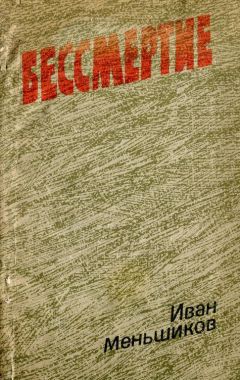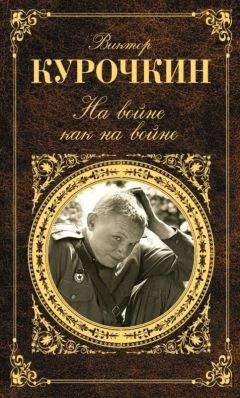Василий Оглоблин - Кукушкины слезы
— Нехворощ, — прошептал он нежно, — так пахнет только нехворощ, печальный и горестный аромат увядания. — И опять подумал о тех, растрелянных. Все, как прежде, как вчера, как будет завтра, а их нет, жизнь, которую они любили, продолжается, а они умерли ночью, на свалке, под черным глухим небом, на сыром ветру... В конюшне Алексея встретил нетерпеливым возгласом комиссар:
— Ну?
— Одежду расстрелянных грузили на машину и отвезли в город, продали какому-то типу. Всю, даже рваные в клочья портянки.
— Где их?
— За городом, на свалке. На пустыре.
Больше комиссар ни о чем не расспрашивал. Стиснул зубы. На окаменевшем скуластом лице долго перекатывались тяжелые желваки.
Глава шестая
В глухую полночь обитателей конюшни подняли. Выгнали на плац. Оцепили густым конвоем с овчарками. Десять раз пересчитали, отсекая четверки пронзительными лучами фонарей. У тюремных ворот выдали каждому по куску хлеба и ржавой селедке. Погнали по мертвым улицам Дрогобыча на вокзал. Вросшие в немую землю утлые домишки провожали колонну слепыми окнами да тягостными вздохами запутавшегося в деревьях сонного ветра. Полаивали и поскуливали озябшие собаки. Покрикивал конвой, подгоняя отстающих. Брызгали снопами света карманные фонари. На вокзале погрузили в товарные вагоны, по сто человек в каждый. Егоров примостился в передний правый угол, сел. Дверь с визгом закрылась. Тишину ночи оглушил пронзительный свисток, лязгнули буфера, сипло свистнул паровозик, и колеса торопливо и зло завыстукивали: там-та-там, там-та-там, там-тум-тум.
Где-то рядом, в тамбуре, вплетаясь в стук колес, заныла, заплакала губная гармоника. Мелодия была чужой, незнакомой, но отозвалась в сердце Алексея болью, острой тоской и печалью, переполняя душу мукой прощания и мукой разлуки.
В вагоне было тесно. Сидели носом в затылок товарищу. Ноги от неловкого положения быстро отекли, заломило спину, закружилась голова. Воздух стал тугим, липким. В редких щелях потемнело, только изредка мелькали пугливые станционные огоньки. Вагон обступила ночь. Поезд шел быстро, не останавливаясь.
Из заднего правого угла раздался твердый с хрипотцой голос знакомого Егорову бригадного комиссара. Голос часто прерывался приступами кашля, тяжелого, утробного.
— Товарищи, я старше всех вас...
В вагоне наступила тишина. Прекратились кряхтения, кашель и тихие перешептывания.
— Говори, отец.
— Так вот, сыночки, слушайте меня, как если бы послушали родного отца, будь он сейчас рядом с вами, кхе-кхе-кхе. Нас везут в Германию. Мы не можем допустить, чтобы нас угнали с родной земли, мы на будем работать на фашистов на их заводах. Мы остались верны воинскому долгу и военной присяге. Так я говорю?
— Правильно говоришь, отец. Что ты нам посоветуешь?
— Выход у нас один — сегодня ночью мы должны убежать. Все. Или жить и бороться... — он на мгновение замялся, — или умереть честной смертью. Другого пути у нас нет. Нам не надо милостыни от врага. Штаны, купленные на милостыню, всегда короткие и жмут...
Он долго кашлял. В вагоне молчали.
— Что же молчите? Или я неясно сказал?
— Надо бежать, — твердо сказал Егоров. — И немедленно.
— Конечно, бежать, — раздалось сразу несколько голосов.
— Другого выхода у нас нет, не в Германию же переться. Ты прав, отец.
— О чем тут говорить? Командуй, батя.
— А ты нас помирать не посылай, мы и без твово ума управимся, довольно, поумирали, — раздался из темноты злой ломкий голос. — Комиссаров тут немае, булы та уси выйшли, мы и сами комиссары...
— Это сказал трус и предатель, — голос комиссара был по-прежнему спокойным. — Кто это сказал?
Все молчали.
Комиссар продолжал:
— Что же молчите, товарищи. Или предателя послушали? Или забыли мудрость нашего народа: лучше суровая зима в родном краю, чем сто весен на чужбине? А? Так. Скоро уже утро. Ждать некогда. Днем побег невозможен. Надо бежать только сейчас. — Комиссар не договорил, закашлялся. Кашлял он долго, надсадно, с каким-то утробным свистом. — Пора действовать. Оконные люки, я это уточнил, когда грузились, закрыты только на засов. Засов находится посредине люка. Надо продолбить в стене отверстие, чтобы просунуть руку и открыть засов, и спустить вниз люк. Это не очень сложно. Вот вам медицинский скальпель, с большим трудом сберег для этой цели. Щепайте стенку и побыстрее. Чаще меняйтесь.
Алексей слышал, как от стены вагона стали откалываться щепки, сначала мелкие, крошкие, потом крупнее и крупнее, в щель дунул свежий ночной ветер.
Все замерли в ожидании. Через несколько минут ржаво скрипнул запор и чья-то рука опустила железную люковую крышку. Алексей из своего угла через головы сидящих увидел ночное небо с трепетно мигающими звездами.
— Спокойно, кхе-кхе, по одному давайте...
Теперь Егоров весь превратился в ожидание и в десятый раз жалел, что на сел поближе к окну, которое теперь то темнело, то вновь распахивалось в ночное небо. Товарищи один за другим прыгали. Чтобы унять дрожь нетерпения, он стал считать: «Седьмой, десятый... двадцать пятый...» Постукивали под полом колеса: та-та-там, тум-тум-тум. Вагон покачивало из стороны в сторону, а из проема окна падали в темноту один за одним люди.
Скорей бы! У окна шевелился сдержанный говор, нетерпеливые возгласы; неуклюжих поднимали, совали ногами в отверстие люка, приказывали коротко:
— Падай!
— Ну и корова, ты что на турнике не работал?
— Быстро, быстро!
— Куда прешь? Моя очередь...
— Давай, давай!
И вдруг протяжный, дикий, животный крик полоснул тишину, застучали в стенку вагона кулаки, затопали ноги:
— Немцы-ы-ы! Из вагона бегут! Бо-о-о-юсь! Бо-юсь!
— Ах ты, червяк!
— Заткни ему!
Чей-то сильный удар бросил кричащего на свободный пятачок пола; он закрутился, завыл пронзительно; удар каблуком прервал вой; все замерли, прислушались.
— Вот гад, погубил, — прохрипел комиссар, — поезд останавливается, услышали крик.
Вагон дернуло. Лязгнули со скрежетом буфера. Послышалась автоматная стрельба, гортанные крики, лай собак. Все ближе, ближе. Топот многих десятков ног оборвался за стенкой.
По открытому люку полоснул острый свет фонарей.
Брякнул засов. Завизжали колесики. Дверь вагона распахнулась. В лица стоявшим в вагоне ударил яркий сноп света. Все шарахнулись от дверей к стенкам. Мгновение длилась тяжелая угрожающая тишина. Растолкав солдат. к дверям подбежал офицер. Рванул левой рукой расстегнутый ворот мундира. Правой махнул резко и пьяно пошатнулся.
— Аллее! Аллллес цу ершиссен! Доннер веттер![3] — Неподвижные глаза смотрели в одну точку. — Аллее капут![4]
Солдаты отступили назад, приставив к животам автоматы, и плеснули в вагон длинными очередями. Живые попадали вместе с мертвыми.
Егорова придавили к полу. Он задыхался. Казалось, что грудная клетка не выдержит тяжести и вот-вот хрустнет. Стоны, вопли, перемешанные с пьяной руганью немцев, переполнили ночь. Кошмар длился, казалось, бесконечно долго. Егоров напряг все силы и попробовал освободиться от навалившихся на него мертвых тел.
— Лежи, — обжег ему ухо чей-то голос, — терпи, это все же не смерть.
— Не выдержу, ребра лопнут.
— Пуля еще хуже...
Автоматы поливали и поливали огнем. Присутствие рядом живого человека приободрило Егорова. Он изловчился, вытянул из-под тел голову, жадно глотнул открытым ртом воздуха, уперся лбом в прохладную стенку, почувствовал облегчение. В вагон заскочил солдат. Пошарил по мертвым светом карманного фонаря. Сплюнул, выпрыгнул. Двери закрылись. Над Егоровым зашевелились. Тяжесть сползла. Алексей распрямился и сел. Голоса удалились. Но эшелон стоял еще долго. Слышно было, как вдоль состава ходили, поругиваясь, солдаты, проверяли запоры на дверях и окнах, чем-то стучали, пересвистывались. Несколько раз хлопнули одиночные выстрелы. Наконец все утихло. Протяжно свистнул паровоз, стукнули буфера, скрипнули колеса, застучали быстрее. Совсем рядом от Егорова выбивали частую дрожь чьи-то зубы, кто-то метался в беспамятстве, кто-то стонал жидким, всхлипывающим стоном. Тишину нарушил знакомый хрипловатый голос:
— Сколько уцелело? Отзовитесь.
Егоров радостно вскрикнул:
— Товарищ комиссар, вы тут?
— Тише. Кхе-кхе. Кто еще?
Из дальнего угла послышался злой голос:
— Я живой, мать их растуды и об землю...
— Еще?
В вагоне стало тихо, так тихо, что Егорову показалось, будто он оглох, словно после контузии.
— Да, маловато. Тридцать два человека убежали, трое живых, шестьдесят три товарища погибли.
— Шестьдесят пять, товарищ комиссар, нас же было сто.
— Шестьдесят три, — в голосе комиссара послушалось раздражение, — предатели и трусы в счет не идут.