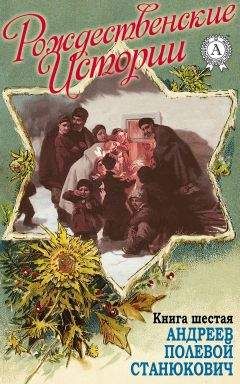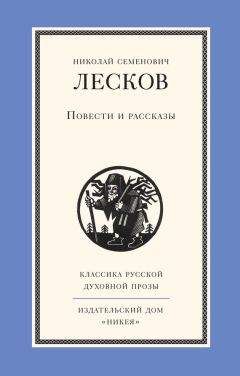Владимир Панаев - Святочные истории
Тут Гришка, продолжая размахивать палкой, пустился вприсядку вместе с козою, припевая скороговоркою:
Антон козу ведет,
Антонова коза нейдет;
А он ее подгоняет,
А она хвостик поднимает…
Он ее вожжами,
Она его рогами…
Старостиха кричала, бранилась, но уже никто ее не слушал; все вокруг нее заплясало, завертелось, и трудно определить, чем бы кончилась потеха, если бы в самом разгаре суматохи не раздалось внезапно из сеней:
— Староста идет!..
Казалось, гром, упавший в эту минуту на избу, не произвел бы такого действия на присутствующих. Раздался оглушительный визг; баба-яга бросила помело, Гришка — палку, журавль — веретено, и все, перепрыгивая друг через дружку, как бараны, побросались в дверь, преследуемые старостихою, у которой, откуда ни возьмись, явилась в руках кочерга.
— А! разбойники! что — взяли! что — взяли!.. — кричала она, нападая с яростью на беглецов и не замечая впопыхах медведя, который, запутавшись в своих овчинах, стоял посреди избы и оглядывал со страхом углы и лавки.
— Что — взяли! — продолжала старостиха, врываясь в сени, — Левоныч! Левоныч! Держи их, не пущай, смотри держи разбойников!..
Медведь быстро оглянулся на дверь и сбросил овчину, покрывавшую голову.
— Параша, это я! не бойся… — произнес он, обращаясь к девушке, которая боязливо пятилась к печке, — спрячь меня! видит Бог, для одной тебя пришел к вам. Слышь, отец идет! — прибавил он, высвобождая одну ногу из рукава овчины.
Страх Параши прошел, по-видимому, тотчас же, как только медведь показал настоящую свою голову. Раздумывать долго нельзя было; голос старосты и жены его приближался и слышался уже на крылечке. Надо было на что-нибудь решиться… Девушка взглянула еще раз на парня и указала ему под лавку. Едва Алексей успел спрятать свои ноги, как староста и жена его вошли в избу. Глаза Данилы блуждали неопределенно во все стороны, и вообще на опухшем лице его изображалась сильная тревога.
— Ну, чего ты уставился? что глаза-то выпучил?.. Тьфу! прости Господи! — произнесла старуха, бросая с сердцем кочергу, — кричу ему: держи их, не пущай!..
— Ох… дай дух перевести… мне почудилось… — перебил староста, протирая глаза.
— То-то, спьяна-то черти, знать, тебе показались!.. Толком говорят — ребята были, чтоб их собаки поели! Пришли, давай, разбойники, все вверх дном вертеть; содом такой подняли, проклятые…
— Погоди… стой! я с ними справлюсь; ты скажи только, кто да кто был, — произнес не совсем твердо староста, у которого хмель отшибал несколько язык и память.
— Известно, кому больше, как не Гришке Силаеву; проклятый такой, чтоб ему…
— Ладно, ладно… а ведь мне почудилось… У Савелия, слышь ты, такую диковину рассказывали… иду я так-то домой, втемяшилось мне это в голову… а тут они, проклятые, понагрянули… не думал, не гадал… Да постой, я им задам завтра таску, особливо Гришке… я давно заприметил.
Староста не докончил речи; голова его откинулась назад, рот искривился, глаза выкатились как горошки и остановились на одной точке. Увидя что-то мохнатое, выползавшее из-под лавки, старуха с визгом вцепилась в мужа. Одна Параша не тронулась с места; она опустила только зардевшееся лицо свое и принялась перебирать край передника.
Алексей вышел из своей прятки и встал на ноги. Данило повалился на лавку; старуха закрыла лицо руками и последовала его примеру.
— Данило Левоныч, тетушка Анна, не пужайтесь! это я… — произнес Алексей, делая шаг вперед.
Заслыша знакомый голос, муж и жена подняли голову.
— Как!.. ах ты, окаянный! — воскликнула старостиха, мгновенно приходя в себя. — Левоныч, хватай его!..
— Каженник!.. — проговорил староста, протирай глаза и тяжело подымаясь с места.
— Хватай его, держи! — голосила старуха, принимаясь толкать мужа.
— Полноте вам сомневаться… — сказал не совсем твердым голосом Алексей, — я не вор какой, не убегу от вас, сам дамся в руки…
— Чего тебе надыть? — заревел Данило, грозно подходя к парню.
— А! так вот как! — крикнула старостиха, кидаясь на дочь, — так вот ты какими делами… погоди, я с тобой справлюсь!
— Тетушка Анна, не тронь ее… — сказал Алексей, становясь между дочерью и матерью, — видит Бог, она не причастна… я во всем причиной и винюсь перед вами.
— А вот погоди, ты у меня скажешь, зачем затесался под лавку, — вымолвил староста, хватая парня.
— Погоди, дядя Данило, постой, не замай, — я винюсь и без того… — пришел с ребятами к тебе; думали позабавиться, песни поиграть… кричат: ты идешь… все вон кинулись, я один не поспел, — вот и вся вина моя… а она, дочь твоя, Данило Левоныч, видит Бог, ни в чем не причастна!..
— Да ты, дурень ты этакой, что его слушаешь! тащи его в сени… дай ему таску, чтоб помнил вперед… тащи его… ах ты охаверник, каженник проклятый!.. постой, я тебе дам знать… — голосила старостиха, подталкивая Алексея в спину, тогда как муж тащил его в сени, — так, так, так, хорошенько ему, разбойнику!..
Увещевание и разговоры были напрасны; староста и жена его стащили бедного Алексея на двор, и вскоре послышался шум свалки.
— Ну, теперь я с тобой поговорю, — начала старостиха, торопливо вбегая в избу, — ах ты, срамница ты этакая!.. Да где она?.. Парашка! — крикнула она, оглядываясь во все стороны.
Увидя дочь, которая стояла на лавочке и, просунувшись по пояс в окно, глядела на улицу, старуха пришла в неописанную ярость.
— Что ты тут делаешь? — взвизгнула она, втаскивая ее в избу и замахиваясь обеими руками.
— Без тебя, матушка, постучали в окно… я отворила… какой-то человек…
— Какой человек?..
— Должно быть, нищенка…
— Какой там еще леший?.. — произнес староста, входя в это время в избу.
— Нищенка, батюшка, — отвечала Параша, — просится переночевать…
— А! это, должно быть, тот самый, что стучался к Савелью да всех нас переполошил, — проговорил Данило, нетерпеливо подходя к окну, в котором мелькнула бледная тень человека. — Погоди же; я тебя выучу таскаться по ночам… Чего тебе надо? — крикнул он, просовывая голову на улицу. — Отваливай, отваливай отселева, коли не хочешь, чтобы я проводил! Вишь, нашел постоялый двор, в какую пору таскаться выдумал… Погоди, я еще узнаю завтра, что ты за человек такой!.. Ступай, ступай!.. Вишь, взаправду, повадились таскаться, — промолвил староста, захлопывая окно, — прогнали с одного двора чуть не взашей, нет — в другой лезет… И добро бы время какое, а то метель, вьюга, стужа… Тут и собака, кажись, лежит — не шелохнется, а он слоняется да окна грызет… О-ох! — заключил Данило, зевая и разваливаясь на печке.
VII
Мы ходили, мы искали Коляду, коляду
По всем дворам, по проулочкам;
Нашли коляду
У Василисина двора.
Здравствуй, хозяин со хозяюшкой,
На долги века, на многи лета!
Народная песня
«Вот не было тоски и печали! — подумал Алексей, выходя из старостиных ворот на улицу, — все как есть, все теперь пропало! — продолжал он, равнодушно шагая по сугробам и не обращая внимания на студеный ветер, который гнал ему в лицо целое море снегу! — И зачем было идти к ним в избу?.. Как словно не знал я, не видал — не вернуть и им пропавшего дела. Коли прежде зароком не велели ей молвить слова — бегала она от меня, как от волка; теперь, стало, и подавно ждать нечего… Эх, загубил я вконец свою голову!..»
Раздумывая таким образом, он не заметил, как очутился перед воротами своей избенки. Из слухового окна все еще мелькал огонек, и Алексей, не ожидавший застать старуху-мать на ногах, поспешил в избу. Но старушка предупредила его; она давно сидела настороже, прислушиваясь к малейшему шуму и шороху. Чуткий слух не обманул ее. Заслышав знакомые шаги, она суетливо поправила платок на голове, взяла лучину и, прежде чем сын успел пройти двор, стояла уж в сеничках.
— Ох, родной мой, куда это ты запропастился? — произнесла она, выбегая на крылечко и заслоняя дрожащею ладонью лучинку. — Уж я ждала-ждала; время, думаю, недоброе, не прилучилось ли чего, помилуй Бог…
— Нет, матушка, ничего, — весело отвечал Алексей, взбираясь по ступенькам.
— То-то, родной… а я сижу так-то да думаю…
И старушка, улучив минуту, когда парень прошел мимо, взяла лучину в левую руку, взглянула на сына и, отвернувшись несколько в сторону, сотворила крестное знамение. После этого она догнала его, и оба вошли в избу.
Избенка была крошечная: стены ее, перекосившиеся во многих местах и прокопченные дымом, были так черны, что даже с помощью лучины едва-едва можно было различить что-нибудь в углах. Но, несмотря на то, везде, куда только проникал глаз, виднелись следы заботливости и строгого порядка; все показывало, что старушка была добрая, радетельная хозяйка. Ничто не валялось зря, где ни попало, все было прибрано к месту, земляной пол был чисто-начисто выметен; и хотя во всем виднелась страшная бедность, но все-таки лачужка Василисы глядела как-то уютнее, приветливее, теплее многих соседних изб. Наружность самой хозяйки соответствовала как нельзя лучше ее жилищу: это была крошечная, тщедушная старушонка, с вдавленною грудью, прикрытою толстой, заплатанной, но чистой рубахой. Голова ее, повязанная ветхим платком с длинными концами назади, склонялась постоянно набок, — ни дать ни взять, как кровля ее избенки. Лицо Василисы было желто и покрыто, как паутина, морщинами, но столько еще веселости отражалось в ее светлых глазах, столько добродушия проглядывало в потускневших чертах ее лица, что нельзя было не полюбить ее сразу.