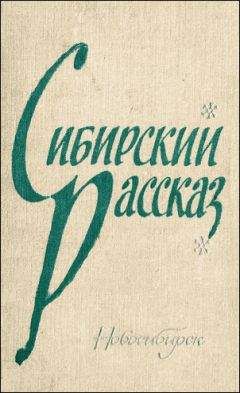Александр Тарасов-Родионов - Шоколад
— Леша, ах, как это больно! Осиротеть, остаться совсем одинокой во всем свете, без тебя?! Леша милый, миленький мой, отговорись как-нибудь! Мой родименький, не уезжай.
— Какой вздор ты мелешь, а еще: жена революционера! Гордись, что твой муж бросает семью, родную страну, быть может, надолго, быть может, навсегда, чтобы на другом конце света бить своею острою киркою мысли и дела по цепям, оковавшим всех нас. Лизочка, милая, ты только подумай об этом подвиге: разве это не величайшая гордость?!
Нависло тяжелое долгое молчанье с тихим плачем жены.
— Тебя здесь не оставят: детям помогут; словом, ты не пропадешь. В случае чего, отыщи Щеглова, Василия Прокофьича. Он сейчас приехал сюда из Москвы. Все обойдется, поступишь на фабрику. Непременно даже поступай на фабрику. Детей можно пока к тетке в деревню. И, кроме того, ты совершенно свободна. В самом деле, быть может, я совсем не вернусь. Я нисколько на тебя не обижусь, если ты выйдешь замуж за другого, лишь бы он оказался таким же честным и смелым, как я, человеком. Напротив, это будет даже гораздо лучше, чем киснуть монашкой во вздохах о прошлом. Ребятишек, разумеется, только при этом не забудь. Из них надо сделать хороших и крепких людей, умеющих брать жизнь сразу за глотку, а не нагибающихся вниз!
— Леша, мне страшно! Ты так странно сейчас говоришь, будто в самом деле прощаешься. Может быть, ты от меня скрываешь что-то ужасное?
— Вот дура! Чего же мне скрывать? Ничего более ужасного мне не угрожает, иначе я вел бы себя по-другому. Просто я трезво смотрю на вещи и говорю: очень скоро я должен уехать чрезвычайно далеко, так что, быть может, больше никогда не встретимся. Я даже очень боюсь, как бы приказ об отъезде не пришел слишком быстро, например, завтра утром. Тогда это свиданье окажется помимо нашей воли последним. Поэтому давай-ка простимся на всякий случай, как будто бы навсегда, — тем радостней будет новая встреча, если только будет. Вот и все! — и они нежно обнялись.
Он отошел и стал гладить по волосам оробевших детей.
Только Лиза продолжала нервно всхлипывать, как на солнце ручьи после прошумевшей грозы, — через час их не будет.
— Эх, Леша, если бы ты знал, как все это тяжело! Как все это мучительно тяжело, словно вся наша жизнь — вдруг насмарку. Конечно, я тобою горжусь, и еще как! Ведь ты же мой светлый, единственный! Ты не такой, как все! Поэтому-то я так безумно и люблю тебя. Но жить без тебя, знать, что ты далеко где-то скитаешься по чужбине одиноко и, может быть, погиб уже, и только я этого не знаю еще и никогда-никогда не узнаю об этом, — ну скажи, разве это не пытка?! Ах, Леша, Леша, у меня нет больше сил. Это же всю жизнь, ты понимаешь — всю жизнь, как только я встретилась с тобой, я, как проклятая, все мучаюсь вечною пыткою сердца! И домучилась! Вот!..
И в безысходном страданьи эта неинтересная бледная женщина опустила свой прозрачный от плача струящийся взгляд куда-то сквозь пол, силясь что-то отыскать там, в глубине… но ничего не нашла.
— Лиза, здесь срок свиданья всего лишь десять минут: такое уж правило. Я боюсь, что мы много просрочили. Собирайся, моя радость. Лучше зайди завтра опять, предварительно справясь у коменданта по телефону, не уехал ли я?!
Вздохнув тяжело и глубоко, Лиза стала собираться, кутая голову в теплый платок.
— Да, вот еще! Как это, в самом деле, я забыл тебя предупредить о самом главном. То, что я рассказал тебе здесь о своем отъезде, есть величайшая партийная тайна. Об этом никто не должен знать никогда. Ты понимаешь? Ты должна мне поклясться, что никому никогда не разболтаешь об этом, иначе я погибну немедленно и навсегда. Ты понимаешь? Никто, кроме трех членов Цека и тебя не будет знать об этом. Для всех остальных будет широко опубликовано всем в назидание, что за доверие белогвардейцам Зудин расстрелян. Понимаешь, так будет везде напечатано: за доверье, за взятки. Иначе нельзя, ведь в этом я виноват, в этом моя вина, Лиза!.. Но все это будет неправда. Ты теперь знаешь настоящую правду, что я жив, но только уехал далеко, вот и все… Ну, прощай, Лизочка! Будь твердой и достойной своего мужа!
Он наспех перецеловал ребятишек и, облокотясь о стол, смотрел, словно клещами распялив улыбку, как, согнувшись от плача, вышла жена в коридор, как подавлено жались к ее юбке ребята и как потом, вдалеке где-то, гулко раздались опять их звонкие, такие родные и милые голосенки.
Только тогда Зудин больше не выдержал, кинулся в постель и беззвучно зарыдал, дергаясь всем телом и ввинтившись зубами в подушку.
Теперь все кончено. Впереди только маленький, невзрачный и такой скучный, один пустой моментик смерти.
«Все кончено!» — Сколько людей произносили и произносят эти слова, не понимая, что они при этом грубо лгут и думают о чем-то жутком и страшном, которое вот-вот только сейчас непрошенно должно будет начаться взамен того обыденного и привычного, что так уютно тянулось всю их жизнь. Ну, и говорили бы тогда: «начинается что-то ужасное!» — а то ведь нет же: «все кончено!» — сердито подумал про кого-то Зудин и стал успокаиваться.
«Вот уж тут кончено, так кончено!.. — подумал он, — и больше нет ничего впереди, ничегошеньки, даже смерти, потому что ее не почувствую. Почувствую, быть может, острую физическую боль, и то, наверно, какую-нибудь одну десятую секунды, последние ощущения уходящей жизни. Но смерти, самой-то смерти я так и не почувствую, потому что ее нет. Для живого человека ее нет. А мертвый ее не чувствует. Конечно, с точки зрения своей личности, расстаться с жизнью крайне тяжело и обидно», — и он задумался.
«Досадно вот также, что убьют и ошельмуют, и все теперь будут знать, что вот он какой прохвост и мерзавец, этот Зудин, бывший председатель губернской чрезвычайки, который попался на взятках и за это был расстрелян ради победы над капитализмом».
«Ах, если бы опять пожить, хоть немножечко, если б опять, поработать… Вот хоть на фронт бы сейчас… Какой новой и радостной показалась бы ему эта жизнь, и как совершенно по-новому он сумел бы теперь ее направить»…
«Горький позор достанется детям, когда они подрастут и будут слышать от всех презираемое, всеми запачканное имя. Узнают они все подробности и проклянут память родного отца. Неужели нельзя было без этого?! Как жаль, что он не коснулся этого вопроса в разговоре с Ткачеевым! Просто не подумал».
И, сунув руки в карман, Зудин подошел к окну, стекла которого вздрагивали и дребезжали от частых выстрелов. Он взглянул на реку. Лед шел так же упрямо и красиво, как и раньше, хоть все кругом было пасмурно и сыро. Внизу, за желтой стеною, на каменной панели улицы играли дети, потому что их голоса и движенья ручонок мелькали оттуда. Изредка маленькая девочка с тонкой косичкой, в коротеньком плюшевом пальтеце, прыгала на одной ножке, перескакивая через нарисованные ею ж мелом на камнях панели широкие клетки, и косичка ее дергалась кверху. Вспомнилась Зудину его Маша, и снова противный комок стал подступать прямо к горлу. Но Зудин пересилил себя и сел спокойно за стол.
«А может быть, в самом деле, никак нельзя было не шельмовать! Ведь, в сущности, важно только одно, — чтобы дело, дело скорейшего счастья всех людей не погибло. Вот что единственно важно, а все другое…» — и Зудин задумался.
«Ну, что бы было, если бы его расстреляли и потом рассказали бы всем, что убили хорошего товарища? Как бы это было нелепо. Никто ровно бы ничего в этом деле не понял, а главное, никто бы в это не поверил. Сказали бы — если не виноват, тогда зачем же было убивать? Значит тут что-то не так! — И все стали бы думать совершенно не о том, о чем надо было думать».
«И лукаво смеялись бы те, что, прижав робко ушки, жадно тащат по своим одиночным щелям жирные крохи зернистой икры и бутылки вина, намазывая рты голодающим глиной под хохот игривых своих „секретарш“. Иль таких нет?!»
«А сколько есть честнейших товарищей, которые так охотно подбирают, только из любви к искусству, все эти объедки шоколада, всех этих балерин, чтобы бережно хранить эту рухлядь, этот мусор минувшего, как святую культуру прошедшего, катаяся в ней, как сыр в масле, и не замечая в орлином гнезде пауков. И для этой „культуры“ вырывается, может быть, последняя черствая корочка у тысячей новых, еще неизведанных, худеньких жизней, таких молодых, таких лепестковых и так безвременно обреченных теперь на голодную верную смерть. Как не крикнуть всем этим старьевщикам дерзко и смело в лицо, да так, чтобы крик это звякнул кровавой пощечиной:
— Смотрите на Зудина! Был такой негодяй, ради прошлого на одно лишь мгновенье позабывший о будущем. Он убит всеми нами, как презренная тварь, как собака! Вас не прельщает его участь?! Так бросайте ж скорей все старье, всякий хлам, как бы ни был он красив и ценен, и думайте только о будущем! О будущем и настоящем!»
«А может быть, — подумал Зудин, — найдутся и такие, и работой и бытом совсем оторвавшиеся от масс одиночки, что начнут мудрить и придумывать, — чем черт не шутит! — как бы спасти революцию… от масс, от рабочих, от бунта, и додумаются… до балерин с шоколадом. И за гаванской сигарой, студя шоколад в тонком фарфоре, играя массивной цепочкой жилета, они будут мычать так спокойно гладко выбритым ртом: