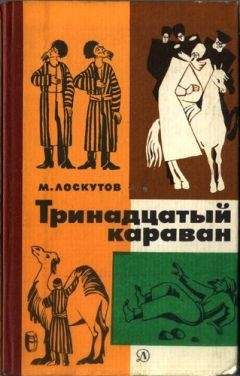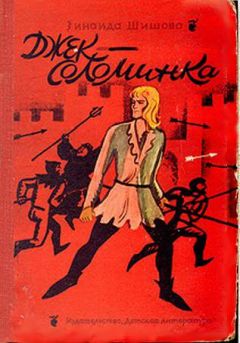Кирилл Шишов - Взрыв
Ворожцов, однако, подождал, пока замрет перед его милицейской формой зеленоглазое такси, пока сядет на лоснящееся кожаное сиденье его спутник и, глядя на часы, помчит с места в водоворот сверкающих золотистых авто. Потом он медленно пошел обратно, в отделение, чтобы там остаться наедине перед скупыми строчками непонятно мучающего его протокола с коротким названием «Авария на развилке Шершневского шоссе».
На сносях
Людмила Леонидовна — сорокалетняя женщина с коротко остриженными волосами и скуластым подвижным лицом. Пятнадцать лет она работает инженером в проектной организации, и потому в движениях ее и походке есть что-то уверенное; и разговаривает она лаконично, четко, словно доказывая, и отбрасывает при этом кивком головы прядь волос.
Сегодня она пришла на работу в последний раз перед отпуском и проходит по коридору, спокойно неся большой живот и наливающееся соками материнства тело. Все в организации знают, что у нее нет мужа, и оттого многие мужчины избегают ей смотреть в глаза, она проходит, словно не замечая их, прямо в свой кабинет, отгороженный застекленными перегородками от общего, уставленного кульманами зала.
На сегодня назначен просмотр законченного объекта, выполненного под ее руководством, и в углу зала на приставленных впритык столах сверяют последние кальки, негромко переговариваясь между собою, бригадиры. Их трое, не считая копировщицы Лены — розовощекой сплетницы и острословки, разложившей тут же нехитрый инструмент, чтобы по ходу вносить коррективы.
— Идет, — шепотом говорит Лена, не поднимая блондинистой головки от кальки, по которой она тщетно водит ваткой, смоченной в ацетоне, — как бы не разродилась напоследок…
— Да, сегодня, как говорится, «наш последний — решительный…». Такой объект только она отстоит, — седеющий Вольфсон переписывает в блокнот номера чертежей, чтобы потом безошибочно отвечать на вопросы комиссии. Представители заказчика, технадзора, пожарники — все соберутся к десяти часам, и мешкать не приходится.
— Надо же, надумала под старость, — продолжает Ленка, сдувая с прозрачного листа остатки ваты. — И чего дурью мается?..
— Ты еще сопливая такие вещи понимать, — спокойно говорит, не поворачиваясь, Григорьев — самый молодой из бригадиров, но уже отец двоих детей. Григорьеву за тридцать, и он выпустил уйму объектов, и давно пора ему работать гипом[1], и Ленка не понимает — чего он сидит в этой «шарашкиной конторе» с бабами…
— Я, Матвей Васильевич, только то говорю, что и без меня все болтают. У нас девчонки, как узнали, что она к гинекологу ходила, все арифмометры сломали — высчитывали: когда да от кого…
— Чужая душа — потемки, — вставляет бесстрастно Вольфсон и подкладывает Ленке подчеркнутую кальку. — Вот тут исправьте, пожалуйста, «дрессировочный» через два «с» пишется…
— Подумаешь — чепуха какая. Что вы меня дрессируете!..
— Я не вас, а стальную полосу дрессировать буду, — Вольфсон не отрывает палец от неверного слова и не отходит, пока Ленка не исправляет всю фразу. — Мы прокаткой занимаемся, понимать надо, в терминологии разобраться…
— Подумаешь, зачем мне терминология. Я в инженеры не готовлюсь. Я не идиотка — старой девой сидеть… Мой курсантик где-то ходит, дожидается…
— Ну, офицерская жена, собирай манатки и марш восвояси. От твоей трескотни уши болят, — третий бригадир Генрих Августович Граббе разогнул напряженную спину и потянулся.
— Сто двадцать два листа, как огурчики…
— Восемь месяцев работы — не шутка. В положенный срок дитя соорудили…
— Ты смотри, не скажи, Юрий Израилевич, это при ней…
— Что я, из ума выжил. Пошли, что ли?..
* * *Ей было страшно оставить свой коллектив даже на короткий срок. Сорок пять человек, конгломерат страстей, бури в стакане воды, с которыми она сжилась и жила ими даже по ночам. Прокатные станы, блюминги, слябинги — они снились ей вперемешку с роскошными прическами ее девчонок — кропотливых и отобранных поштучно из института. Мужчин было мало — парни не держались и уходили, набравшись опыта, на заводы за премиями, за надбавками…
Три бригадира, пяток техников, двое выпускников с Сибирского политехнического — невелик мужской костячок, но с девчонками — родными модницами — она сворачивала горы. А тут — полгода на постирушках… Правда, мама поможет, в ее возрасте она и полы моет, и на рынок успевает… Но, кто знает, что впереди… Людмила Леонидовна вздохнула, поправила машинально волосы — в кабинете не было зеркала, а в стекла она не всматривалась. Еще раз просмотрела тезисы доклада и, приоткрыв дверь, попросила:
— Юрий Израилевич, вы готовы?
Они зашли — трое с рулоном калек и плакатами, все в белых рубашках, с галстуками. И по-прежнему, чудаки, стараются не смотреть на нее, располневшую, необычную…
— Как будем докладывать — отдельно по термообработке и прокатке или в комплексе?
— Вы, Людмила Леонидовна, лучше в целом за все разделы скажите, а по вопросам, если что надо будет, мы уточним…
— Главное, держать принципиальную линию… Жесткие допуски, никаких уступок заводчанам. Лист должен укладываться в международный стандарт, и тут они нас не сдвинут!..
— Вы же знаете, что мы поддержим!! — Кажется Григорьев волнуется больше остальных.
Не к добру это. Без меня как бы на попятную не пошел, слабоват он руководить отделом…
— Я понимаю, что завод не подготовлен принять весь проект в целом. Такие допуски ему поперек горла. Но это ведомственный подход… — Она убеждала, как ей казалось, Вольфсона, но тот сторонился, уступая место Григорьеву. Все-таки жаль, что ушел на завод Черенцов, — с ним она чувствовала себя уверенней…
— Ну, присядем на дорожку…
* * *Ребенок толкнулся внутри мягко, словно напоминая о себе. Нет, она не забывает, ни на минуту не забывает. Удивленные взгляды, намеки можно забыть мгновенно. Уклончивый разговор с главным инженером — не стоит воспоминаний: специалистов ее диапазона будут ценить далее с десятком внебрачных детей… Она не забывает одного — невысказанного… Спрятанного на самом донышке. Неизвестного ни матери, ни даже ему — отцу будущего ребенка… Как хочется, чтобы родился сын.
Ни в кабинете, в укромных ящиках стола, ни дома ни одной его фотографии. Она воспитает ребенка сама, как понимает, как чувствует… Как воспитывал ее отец. С детства книги по физике, по математике, с детства — военный завод, эвакуация, токарный станок в шестнадцать, логарифмическая линейка и Пушкин по вечерам — в двадцать… Поэзия раскаленного металла, споры с отцом о смысле жизни, декабристки и народоволки рядом с интегралами… Может быть, все дело в том, что она была единственной у отца? И ей было страшно расстаться с ним, когда уже подруги повыходили замуж, а они ездили вдвоем на скрипучих велосипедах по северным деревенькам в отпуск, и он — белоголовый, сухопарый, с весенними глазами — завораживал ее рассказами, о русской истории, о бескорыстных ученых — Аносове или Чернове, Шухове или Белелюбском… Ей было страшно покинуть его, и когда пришлось плакать на могиле и утешать овдовевшую мать — она была уже за тем порогом, когда выходят замуж и бездумно рожают…
Нет, пожалуй, это было не так. Ее не держали на поводке пристойной девицы. Были и студенческие вечеринки, и разгоряченные осмелевшие мужские руки, и сумасшедшие черемуховые ночи, но ей не удавалось, никогда не удавалось броситься в них, как в омут. Очертя голову. Вслушиваясь лишь в слова. Она вглядывалась в затянутые поволокой страсти глаза и почему-то всегда отводила нетерпеливые руки… Может, оттого, что слишком рано возникла в ней стальная пружинка воли, когда она, закусив губы, давала по три нормы на списанном и дребезжащем станке? Или оттого, что парни списывали у нее лекции и носили на проверку курсовые, ибо сама она делала их по ночам, упрямо шарясь в отцовских книгах? А может быть, просто не повстречался ей золотой человек, за которым можно было пойти на край света, в Сибирь, на Чукотку…
Она побывала в Сибири одна. Три года по распределению, единственная из девчонок курса мастером в сортопрокатном. Одна выдержала бездомье общежития, выговоры на планерках, слезы от первой прокатанной вишневой полосы… Сколько раз приезжал к ней отец, туда, в мошкариный край и майские заморозки, долго смотрел, уронив узловатые руки, на прибранную комнатку с книгами и подмосковными кленовыми листиками над кроватью. И никогда не говорил ей о внуках, о продолжении рода… Она была благодарна ему за это молчание…
Они говорили о холодной прокатке, о волочильных станах, о капризах изношенных осатанелых валков. И только мать в письмах тайно грустила о судьбе дочки-инженерши… О фамилии, которая может прерваться без наследников.