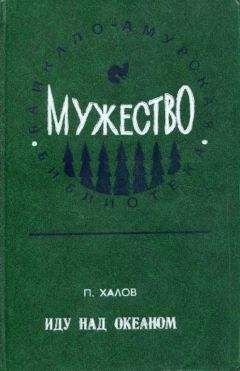Павел Халов - Пеленг 307
Развилка дорог (здесь на основную трассу выходили заводские МАЗы) была последней Алешкиной приметой.
— Все. Больше нет, — с облегчением сказал он и отрывисто хахакнул. — Здорово?
— Да, — отозвался я. — Здорово... Завгар знает?
— Федор Кириллыч? — спросил Алешка.
— Да...
Алешка медлил.
Уже совсем стемнело. Дорога неясно белела впереди. Я включил подфарники.
— Может быть, догадывается. Он часто выходит на трассу со мной. Я не говорил, — сказал Алешка. Он отер ладонью лоб. — Душно... Дождя бы...
— Где ты живешь?
— Направо, за пожаркой.
Алешка изнеможенно откинулся на спинку сиденья и вытянул ноги, насколько позволяла тесная кабина «москвича».
Миновали приземистую беленую пожарку и поехали вдоль узкой улочки, погруженной в мягкий июльский полумрак. Вверху светилось зеленое небо. И дорога была мягкая и ласковая. Казалось, что она прогибается под колесами.
— Здесь, Семен Василич. Дальше трудно развернуться...
Алешка не смог открыть дверцу. Он теребил ее, дергал и смутился. Бывает так, что состояние человека можно понять по одному движению. Алешка как-то сразу обмяк и растерялся. Я помог ему выйти.
— Спасибо, Алеша.
— Не за что, — глухо отозвался он.
Когда я тронул автомобиль, чтобы развернуться, Алешка подался ко мне всем телом.
— Семен Василич, — с тревогой окликнул он. И не успел я откликнуться, как Алешка вяло махнул рукой и расслабленно поплелся к калитке.
В сенях брякнуло ведро. Алешка вошел в дом. Я посмотрел ему вслед.
4— Здорово, — сказал мне отец. Он сидел за столом под тополями и курил. На краю стола горела керосиновая лампа. — Как работалось?
— Добрый вечер, батя... Шесть рейсов, — ответил я. — Где мама?
— К Марине пошла. Мы отужинали... Ты что-то припозднился. Поломка?
Накрытые белым полотенцем, на столе стояли тарелки с малосольными и свежими огурцами, вареная картошка в чугунке и кружка с молоком. Картошка была еще теплая. Тут же на буханке хлеба лежали ножик и ложка.
— Алексей метки свои показывал на трассе, — сказал я, отрезая себе толстый ломоть.
Отец перешел в гамак, а я сел на согретую им табуретку.
— Какие метки? — заинтересовался отец из темноты. Он следил за мной. — Перец на загнетке, в железной банке.
Я сходил за перцем.
— Он всю трассу разметил, вроде как буйки поставил — где какую передачу врубать и с какой скоростью надо ехать. С точностью до метра. Здорово придумал, —сказал я.
— Здорово... — протянул отец. — У него десять рейсов сегодня.
— Девять. Вчера было десять, — сказал я.
— Здорово. Сообразил, чертенок! Я и то подумал, как это другие по восемь да по семь, а он — десять. Трасса каверзная. — Помолчав, отец добавил: — А Федор с ним осторожничает еще.
— Федор не знает... Никто не знает. Алешка один так работает.
— Как это не знает! — сердито проворчал отец. — Федор — и не знает.
— Не знает, батя, — тихо повторил я. — Алешка один ездит по своим меткам. Второй год...
Отец поднялся из гамака и пошел на летнюю кухню. Я ел.
— У тебя есть спички? — издалека четко спросил он.
— Есть, — ответил я, вынимая коробок. — Только они, кажется, все горелые...
— Что за пропасть — не напасешься спичек! Каждый день приношу по два коробка!
— Пошарьте за трубой, батя, — осторожно посоветовал я.
Спичек отец не отыскал. Да они и не были ему нужны: его цигарка ярко светилась в темноте.
Мне не хотелось думать о завтрашнем дне. Я давно съел свой ужин и сидел на месте, положив локти на стол. Лампа начала коптить. Я убавил фитиль и снова положил руки на стол.
Этот проклятый камень! Алешка вытоптал бурьян, и теперь он заметен метров за семьсот. И березка — ее видно даже ночью. Руки — умнее головы. Теперь они будут заодно с машиной — ей легче, если у камня переключить передачу...
Я попытался предположить, как поступили бы сейчас Феликс или Меньшенький. Но никак не мог представить их здесь, в этой обстановке: ни Костю, ни Феликса, ни даже Мишку.
— Батя! — позвал я.
Отец не ответил. Только протяжно скрипнула за моей спиной табуретка — это он повернулся.
— Если бы тебе было десять лет, — немного погодя ответил он сердито, — я растолковал бы. Но когда тебе было десять лет, я валялся по госпиталям с вырванным боком. — Он еще помолчал и добавил: — Уже в пору мне у тебя подмоги просить.
Несколько минут отец сидел неподвижно. Было тихо, лишь едва слышно сопела передо мной на столе керосиновая лампа да потрескивала батина цигарка. Потом табуретка снова скрипнула — отец поднялся и побрел в сени. Проходя мимо меня, он замедлил шаг, но не остановился. В дверях он сказал:
— Одно зараз ясно: мы с Федором да вот еще с Валюхой твоей коммунизм сработать справились бы годков за пятнадцать... Мабудь, Хрущев вас с Алехой в виду имел — пять лет набросил... на размышления...
— Спать ложись, сынок, — донесся мамин голос, ослабленный дремотой и тишью. — Того и гляди, светать станет.
Я потушил лампу, постоял, привыкая к темноте. «Не может быть, чтобы Алешка уже уснул, — подумал я. — Улицу найти можно — налево за пожаркой, но дом в такую темень отыскать трудно».
В сенях где-то был фонарик. Несколько дней назад я его видел; батарейка еще дышала.
Осторожно я шарил руками впотьмах. Звякнули бутылки, посыпались какие-то коробки...
— В ящике с гвоздями в углу глянь, — совсем рядом прозвучал отцов голос...
Отец стоял на пороге, смутно белея мешковатыми кальсонами.
Я достал фонарик, несколько раз мигнул им в потолок — батарейка слабо, но работала.
За пожаркой, на глухой, кончающейся тупичком улице, мазанки лепились тесно. Они были очень похожи одна на другую. Желтое пятно фонаря скользило по заборам, стенам, по черным окнам. Давеча я разворачивался возле колодца с журавлем. Колодец — вот, а дома рядом незнакомы. Я остановился, припоминая, как шел Алешка.
— Семен Василич! — окликнули меня из темноты. От забора отделилась тонкая человеческая фигура.
— Это ты, Алешка?
— Я.
Он подошел ко мне. Ни один из нас не удивился этой встрече...
— Закурим? — предложил я.
— Закурим...
Мы сели на мокрое от росы бревно у забора. Алешка закурил и протянул зажженную спичку мне. Лицо у него осунулось, но было спокойным и повзрослевшим. Может быть, это мне лишь показалось: пламя спички осветило его снизу, на подбородке на миг зазолотилась щетина, под глазами легли глубокие тени, темные потрескавшиеся губы были сомкнуты так плотно, что ему, наверно, трудно было их разжимать.
Алешка затягивался редко и ожесточенно, обжигая пальцы. Он что-то решал. И я чувствовал это.
— Завгар живет недалеко — на соседней, — сказал он.
Помедлив, я ответил:
— Я провожу тебя...
— Обоим надо. Один пойду — ерунда получится. Как вечером.
— Хорошо, — сказал я. — Пойдем оба...
Едва Алешка пальцами коснулся распахнутого окна веранды, как там вспыхнул свет и над подоконником возникла сутулая фигура Федора.
— Дело есть, Федор Кириллыч, — сказал Алешка глуховатым голосом.
Федор кивнул и негромко ответил:
— Штаны сейчас надену... Иди до крыльца, Лешка. — Я стоял в стороне, Федор меня не видел. И, открыв калитку, удивился: — Племяш?
Шлепая босыми ногами по доскам, проложенным во дворе, Федор повел нас к крыльцу. Он сел первым, вытащил из кармана штанов папиросы, торчком сунул по одной Алешке и мне. Прежде чем закурить свою, он долго мял ее и продувал.
Молчали.
С каждой секундой Федор все больше настораживался. Может быть, он ждал неприятного известия из гаража — завгаров не будят из-за пустяков — и готовился...
Закурив, Федор грузно повернулся к Алешке.
— Давай. Слушаю.
И Алешка, глядя в сторону и куда-то себе под ноги, как заведенный рассказывал. Настороженность Федора проходила. Он слушал тяжело, не отрываясь. Думал. Коротко переспрашивал.
Алешка закончил. Федор поднялся и ушел на веранду.
Алешка взглянул на меня враждебно и вопросительно. И я чуть заметно, скорее для самого себя, пожал плечами.
Федор скрипел половицами, шелестел бумагой.
Потом позвал:
— Сюда идите, ребята.
На свежеоструганном столе, еще пахнущем сосной, сдвинув в сторону ворох стружек, Федор разложил тетрадь.
— Вот бетонка, — нарисовал он в уголке жирный квадратик, глубоко вдавливая карандаш. В его коротких черных пальцах с ногтями, остриженными под корень, карандаш был неестественно тонким.
— Трасса... Мост... Развилка, — говорил он, рисуя значки. — Показывайте вашу стратегию.
Стульев на веранде не было. Залитая светом сильной лампочки, с некрашеными досками стен и пола, с верстаком в правом углу, она походила на мастерскую. И только постель, разостланная на полу у окна, делала ее обитаемой.
Дверь в комнату была открыта. Виднелся краешек широкой кровати: там спали дети. Из-под одеяла выглядывало несколько пар детских ног.