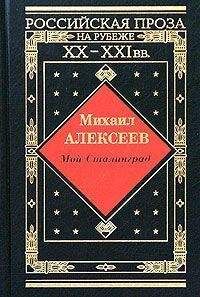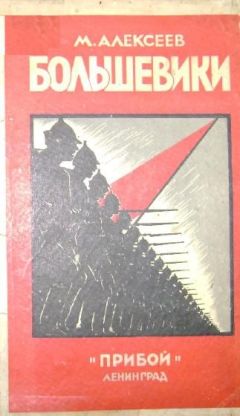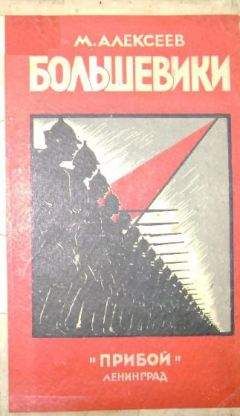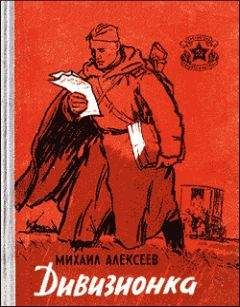Михаил Алексеев - Рыжонка
— Говоришь, нет хлеба! А это что — не хлеб? Показывай, где зарыл пшено, кулацкая твоя морда?!
Незнакомый, городского вида человек, держал Дениса, как козла, за бороду и матерился, не обращая внимания ни на Груню, ни на Аннушку, которая что-то пыталась объяснить мучителю ее мужа. Груня спряталась за моей спиной и потихоньку всхлипывала. Подхватив ее за руку, я убежал вместе с нею в наш дом. Побежал было к нашей избе и «уполномоченный» (я про себя назвал его так, потому что из района наезжали в село, как мне казалось, одни уполномоченные) — побежал было, но его задержал перед самой калиткой Жулик, бросившийся на чужого человека с яростным лаем. Уполномоченный выхватил из кобуры, висевшей у него с левой стороны, наган и выстрелил три раза кряду, но в собаку не попал. Долго матерился у ворот, а выматерившись, ушел прочь. Из нашего окна мы видели, как он вернулся к телеге, на которой сидели еще двое, подхлестнул лошадь. Жулик бежал за телегой до тех пор, пока она не оказалась на расстоянии, где он мог бы оставить ее: свой собачий долг он исполнил до конца, отогнал врагов от нашего дома. В Жулика выстрелили еще раз, но опять промахнулись, — похоже, стреляющий был пьян. Подбежав к окну и отыскивая в нем наши лица, Жулик ждал одобрения своих несомненно правильных действий.
А на следующий день соседи наши покидали родное село. Впряженный в тележку, на которую были уложены узлы с каким-то добром, Денис уводил остаток своей семьи, а куда — мы не знали. Да и знал ли он сам, решившись на отчаянный шаг?..
До Чаадаевской горы я провожал Груню. Взявшись за руки и немного приотстав, мы шли и молчали. Да и что мы могли сказать друг другу?! Поднявшись на вершину горы, где Денис остановился, чтобы перевести дух и куда подошли и мы с его старшей дочерью, я вспомнил про Рыжонку: именно тут я когда-то потерял ее. Рыжонка, — это она все-таки спасла и меня, и мою юную подругу от голодной смерти. Провожая Груню, я уже знал, что скоро навсегда распрощаюсь и с самой Рыжонкой.
От того ли, что вместе с молоком я вытянул из нее все жилы, от того ли, что была уж очень стара, — не знаю уж от чего именно, но корова вдруг занемогла, перестала есть траву, не прикасалась даже к запаренной крапиве, которую очень любила, отказалась и от свеклы, которую я приберег для нее. Было ясно, что дни Рыжонкины сочтены. И она могла бы, как это делается с людьми, тихо и спокойно помереть. Но, оказывается, корова не имела на это права.
— Вот што, робята, — сказал нам, трем братьям, наш доброхот Федот Михайлович Ефремов, — давайте-ка прирежем вашу Рыжонку, пока не поздно. Не ныне завтра она откинет копыта. А так у вас будет мясцо, говядинка. Глядишь, и продержитесь с больной-то матерью месячишко.
Сам он и зарезал Рыжонку в ее же хлеву. Вместе с Санькой и Ленькой подтянул тушу к перерубу, чтобы удобнее было свежевать, снимать с нее шкуру. До сих пор видится мне эта вывернутая наизнанку шкура, брошенная в угол, и синее, без единой жиринки мясо. В другом углу лежала Рыжонкина голова, с большими ее глазами, так и оставшимися открытыми. Мне казалось, что они смотрели только на меня одного, будто я один только и виноват в том, что ее убили, не дали помереть спокойно. Добрые рога, круто вогнутые вовнутрь будто специально для того, чтобы их никто и никогда не пугался, сейчас утыкались в стену.
Я подошел к голове, попытался поднять ее, но не смог, — так она была тяжела. Зачем-то пересчитал родовые кольца на рогах и только потом разогнулся.
Федот Михайлович, вытирая о рогожу испачканные кровью руки, уронил с трудным вздохом:
— Ну, вот и все, робята.
— Все, — повторили мы вслед за ним.
И это было действительно все…
ЭПИЛОГ
А Коллектив под Чаадаевской горой? Исключительно бурная и несомненно счастливая жизнь его, увы, оказалась чрезвычайно короткой: поселенцев раскулачили не порознь, а как бы чохом, всех сразу, так оно проще и менее канительно, «ликвидировали как класс» почему-то за год до того, как началась «сплошная коллективизация на основе…». Память об исчезнувшем вдруг поистине райском уголке, созданном десятком умных и трудолюбивых мужиков, долго хранили, да и теперь еще хранят одичавшие яблони, вишни, терновник и единственный, потрескавшийся от древности колодезный журавель, — самого колодца, как и всех его соседей, давно уже не существует: затянуло илом, давшим обильную пищу для крапивы, которая по высоте и густоте соперничает тут с лесом.
Душноватый чердак нового поповского дома с запахом анисового яблока, притаившись, живет во мне и по сию пору, храня в себе щемяще-сладкую и грустную память о далеком и невозвратном прошлом. Нету теперь ни благообразного отца Василия, нету его худенькой матушки, народившей кучу детей. Нету и порядка других домов, начало которым положил наш дом, — ничего там нету, кроме печального запустения с его непременной спутницей — лебедой. Давно не благовестят многоголосые колокола в трех церквах. Нету и самих церквей. Ничегошеньки этого, нету. Из шести сотен с лишним дворов осталось чуть более сотни, а ведь ни одна война сюда не докатывалась. Живет нетронутой одна лишь память и не дает спать по ночам. Она-то знает, что именно насильственное создание колхозов похоронным звоном умирающих церквей прозвучало над нашей сельщиной. Но вот что странно и удивительно: им же, этим колхозам и совхозам, в наши перестроечные дни, когда всё вокруг перевернулось, сметается и рушится, мы обязаны тем, что еще «живем и хлеб жуем».
Между тем отовсюду, со всех высоких трибун, слышатся пламенные призывы о немедленном введении частной собственности на землю, об арендах, о семейных подрядах, о немедленном же устранении колхозов и совхозов как таковых, а это уже смахивает на ту же «сплошную», вывернутую наизнанку.
Свидетель кошмарных 30-х годов, я бы всей душой поддержал всех, кто ищет для страдалицы-земли отнятого у нее Хозяина. Поддержал бы, если б… если б не знал, что крестьянских семей в прежнем их виде, таких, какими они складывались на Руси веками, нет и в помине. Кому ж вы, народные витии, собираетесь отдать или продать землю? Немощным старикам и старухам, доживающим свой век в умирающих селах и деревнях? Или, может быть, временщикам, которые кочуют из края в край, как перекати-поле, нигде не задерживаясь, нигде не пуская своих корней? Или сплавить за бесценок родимую землицу героям теневой экономики, чтобы на великих российских просторах появились латифундии и латифундисты наподобие южноамериканских, чтобы русский мужик из одного рабства угодил в другое, где уже не барин и не колхоз будут помахивать над его согбенной спиной кнутиком, а новоиспеченный плантатор, — этого вы хотите?!
За шестьдесят лет на Руси произошло самое страшное, что могло только произойти, — генетическое отчуждение от земли уже нескольких поколений людей, коим по их происхождению надлежало быть сельскими жителями. Может, наступит время, когда, подчиняясь извечному зову землепашца, они вновь потянутся к земле. Но когда это будет и будет ли вообще? Теперь же их не заманишь в деревню и моим знаменитым саратовским калачом. В этих условиях, дорогие мои народные избранники, прихлопнуть одним махом ваших депутатских рук колхозы и совхозы одновременно и немедленно — значило бы обречь народ на голод, вероятно, еще более ужасный, чем тот, который пронесся над страной черным смерчем в начале 30-х.
Процесс, начатый в 85-м, неостановим. Он начался потому, что не мог не начаться. Вероятно, мало кто думал о том, что он может обрести столь разрушительно-драматический характер. Но неужто не в наших силах изменить его ход, дать ему разумно-созидательное направление?!
Что касается милой моему сердцу деревни, то тут иного пути нет: вернуть земле хозяина, а хозяину — землю. Вот формула, от которой, как от печки, должно танцевать, тем более что она ни у кого не вызывает ни сомнения, ни сопротивления. Ею рождена и определенно здравая мысль о единственно разумной и логичной многоукладности нашего землеустройства. Идут хорошо дела в колхозе или совхозе, — на здоровье! Было бы глупо рушить их: от добра добра не ищут. Явится мощный хозяин-единоличник, как мы его в известные времена не называли, а «прозывали», хозяин своего надела, уравненный государством во всех правах и обязанностях с коллективными хозяйствами, докажет свою безусловную жизнеустойчивость, — дать ему дорогу, не мешать, а помогать, да еще охранить от нападок ленивых завистников-соседей, которым такой хозяин — как бельмо в глазу.
Хозяин!
Он должен прийти. И он придет. Но для этого требуется время. И немалое. И ему придется иметь дело не с дюжиной десятин, а с миллионами гектаров. По силам ли они рождающимся в муках крестьянским дворам, когда их, дворов этих, раз-два и обчелся?..
А мы торопимся. Всегда у нас так: то стоим на месте, когда надо двигаться, то срываемся с места и несемся сломя голову, толком не зная куда. Прежде бы подумать, по-крестьянски же приглядеться, примериться, а потом уж…