Николай Батурин - Король Королевской избушки
— Хересу.
— Холодного? Горячего?
— Холодно-горячего.
— Кхе-хе.
— Красный есть?
— К-конечно, есть, самый к-красный б-белый есть, — заикаясь ответит молдаванин с длинными усами, приклеенными лейкопластырем к высоким скулам.
— А зеленый? — скажет он, потому что торговец, не умея быстро и точно налить вина, будет цедить его с деланным безразличием, словно поливая кому-то на руки.
— Хе-хе, — начнет усач, — зеленый б-бывает у армян… У них и нет ничего, к-кроме зеленого. Бочка от плесени зеленая, и вино тоже зеленое… К-красный херес у них совсем зеленый, кто пьет, зараз посинеет.
Вино окажется хорошим и в меру холодным, с легким букетом долголетней выдержки. Но ему будет не хватать того живого духа, который примешивал к вину армянин.
Он вытрет рукавом светлого пиджака губы, как привык это делать в лесу после чаепития, скажет молдаванину среднее спасибо и пойдет прочь.
— Эй!.. А деньги?
— За вино, — скажет он, протягивая бумажку, наугад вынутую из кармана. Он сразу прибавит шагу, чтобы не пошатываться, пролавирует между разноцветными ларьками, точно между разбросанными детскими кубиками, и сойдет с дороги к дюнам вдоль побережья. Он побредет между ними, словно между верблюдами, прилегшими отдохнуть, и сядет на горб самого дружелюбного из них у кромки воды. Уф! Наконец он увидит море, которое было для него тем же лесом, только без деревьев, еще более безграничное и менее объяснимое. Он увидит, как заходит солнце, этот гигантский красный буй, погружающийся в темную воду на горизонте, и на ее фоне светлые росчерки крыльев чайки-поморника. Его рот растянется в улыбке, взгляд растворится в необозримой бездне воды, в ушах зазвенит бесчисленное множество водопадов. Неизвестно, сколько он так просидит там, не пробуди его скрип чьих-то шагов по песчаным наносам. Он понадеется, что шаги пройдут стороной, но, когда они затихнут рядом, он взглянет вверх и увидит воплощение своей тоски по городам, девицу, которую он недавно видел с кружкой в конце винного ряда. Теперь у нее в руках будут белые туфли с высокими, словно минареты, каблуками. Издали она выглядела старше, теперь же, на исходе дня, она покажется гораздо моложе, почти девчонкой, которая тайком от матери пользуется ее гардеробом. Вернее, это будет сама юность, вобравшая опыт столетий. На ее худом лице будет особенно выделяться большой рот с пухлыми губами, которые, видимо, знали не только губную помаду.
— Я шла кругом, через порт. Поэтому опоздала, — скажет она, падая в песок на колени.
Он слегка удивится, но не подаст виду.
— А я тут пока смотрел на море.
— На море хорошо смотреть… Как будто оно тоже на тебя смотрит, — скажет Бродяжка. — Интересно, что оно о нас думает?
— Что мы мало вина выпили, — скажет он.
— Тогда надо так сделать, чтобы море лучше о нас думало, — скажет Бродяжка и вытянет на песке свои детские, слишком голые ноги.
— Пожалуй, запретить нам некому, — скажет он.
Бродяжка мельком взглянет на него и улыбнется совсем не детской полуулыбкой.
— Есть кому… Папе и маме. Они вон там живут… — и Бродяжка прочертит своей маленькой рукой большую дугу с севера на запад. — Наверху в мазанке… Мой папа моряк.
— Вот почему у меня в ушах шумит, — скажет он и скосит глаза на Бродяжку, усердно закапывающую свои ноги в песок.
— В ушах шумит? — Бродяжка взглянет на него пристально, будто этот шум можно увидеть, и засмеется во весь рот, обнажая кончик вишневого языка и крошечные, словно только что прорезавшиеся зубы. — У вас в ушах вино шумит и… — она вдруг замолчит и станет серьезной.
— Только вино, — поможет он Бродяжке.
Бродяжка, стараясь выйти из затруднительного положения, достанет из своего чудесного кожаного кармашка на поясе пачку сигарет со спичками и положит их на подол короткого платья.
— Зажгите мне, пожалуйста, сигарету, — скажет она чересчур обыденным тоном, закапывая руки в песок за спиной. — Мои руки слишком глубоко в песке.
— Давайте я лучше откопаю вам руки, — скажет он улыбаясь.
Бродяжка окинет его долгим взглядом и, как ему покажется, свысока, возьмет сама сигарету и, раскурив ее как следует, утопит в дыму комара. «Комар заблудился», — прыснет Бродяжка со смеху. Затем важно положит сигареты обратно в кожаный кармашек.
— Красивый, да? — скажет она, заметив его взгляд, и добавит улыбаясь: — Подарок отца.
— Очень красивый, — скажет он, — как подарок отца.
— Именно, — скажет Бродяжка, охотно соглашаясь.
— Мне кажется, я знаю твоего отца… Он ведь моряк? — спросит он.
— Он моряк дальнего плавания, — скажет Бродяжка.
— А твоя мать — жена моряка дальнего плавания… Я, наверно, знаю и ее… Однажды… — он замолкнет, потому что Бродяжка отвернется от него и станет смотреть на порт, где подъемные краны водят свой бесконечный хоровод и откуда начнет приближаться ночь, точно стелющийся по ветру дым парохода.
Он увидит Бродяжку сбоку; кисти рук, заклиненные меж тонкими коленями, прическу, высокую и тяжелую, сделавшую ее еще меньше, точно вдавив в песок. Ему покажется, будто Бродяжке холодно, но не оттого, что спускается ночь.
Сначала он подумает, что ничего не случилось; потом начнет проклинать себя, потом глубоко сожалеть, что разбил чью-то хрупкую мечту, точно кузнец ласточкино гнездо. Но Бродяжка быстро справится с собой, ей покажется знакомо откровенное проявление человеческой прямоты и честности. В ее опустошенном голосе зазвучит нота собственного достоинства, и она скажет приглушенно:
— А море я все-таки люблю… Они знают, где искать меня по вечерам.
— И море вас любит, — только и скажет он, не замечая, что есть «они». И Бродяжка, будто от радости, что любовь к ней так необъятна и глубока, посмотрит на него совсем-совсем по-другому. Помолчав немного, она спросит, думая вроде бы о чем-то другом:
— Вы небось женаты?
— О да, — ответит он. — В разных местах и много раз.
— И вам от этого хоть бы что?
— Им от этого хоть бы что.
— Любовь и верность наивны, правда?
Он пожмет плечами и подумает про себя, что Любовь и Верность не так уж наивны, — объединяясь, они образуют смягченную, скрытую форму рабства. Но он не скажет этого вслух, ведь Бродяжка и так достаточно умна. Он скажет:
— Они нужны, если они есть.
— Вы как будто не отсюда, — скажет Бродяжка подозрительно. — Вы говорите о старых вещах, будто они вполне еще годятся… Вы как будто не отсюда, — повторит Бродяжка, долго разглядывая, точно сделав неожиданное открытие, его парусиновые ботинки.
— Это потому, что я оттуда. — И он скажет ей, откуда он.
— Я бы тоже хотела быть оттуда, но это, наверно, ужасно далеко, — скажет Бродяжка, словно обращаясь к кому-то третьему. — Я бы хотела быть из Рима или из Парижа. Из городов, где я не бывала, Рим и Париж мне нравятся больше всего.
Они оба посмотрят в одну сторону — на море, иссиня-черное и звездное, совсем как ночное зимнее небо над тайгой. Они будут молча смотреть на море, и в эти считанные секунды он ни о чем не станет серьезно размышлять, оставаясь верным программе дня — быть и существовать. Бродяжка задумается о том же самом или о том, чем кончится сегодня и что принесет завтра. Только дети или впавшие в детство старики знают, что будет завтра.
— Если бы все были такие, как вы… Если бы у всех сердце просвечивало, как сигнальная лампочка… — вот о чем подумает Бродяжка.
— Тогда бы увидели, сколько на свете погасших ламп, — закончит он ее мысль.
— Нет, тогда было бы видно, кто кого заслуживает, — поправит Бродяжка. — Но человек так и останется тайной, недоступной ясновидцам. — Бродяжка немного сникнет от этой мысли, по потом вдруг вздрогнет, будто жеребенок, коснувшийся росистого деревца.
— Ночная сырость, — скажет он, накидывая пиджак на плечи Бродяжки.
— Спасибо, папочка, так, что ли? — спросит она с неожиданной насмешкой. И потом запальчиво: — Мне совсем не холодно, не холодно мне… Ах, и не жарко тоже… Но… Но это не значит, что мне не жарко и не холодно… Раз уж другие думают о нас плохо, выпьем-ка лучше вина, чтобы море о нас хорошо думало…
Он поспешно встанет, коснется ее высокой прически, затвердевшей от лака и пахнущей совсем не по-девичьи.
— Пойду взгляну, не уехали ли эти молдаване в Молдавию, — скажет он.
— Мне хересу, — крикнет Бродяжка вслед. — Кра-асного.
Во всю прыть своих длинных ног, как лось-волюн, поскачет он по зыбким дюнам, сквозь заросли овсюга, продираясь одновременно сквозь свои сомнения, чтобы успеть решиться на что-нибудь в отношении Бродяжки. Так он нарушит свою программу дня. Но и обратная дорога кончится раньше, чем он успеет прийти к решению. Его руки будут заняты разными пакетами, коробками и корзинкой с вином, а голова — сомненьями, отнюдь не приближающими его к Бродяжке. И точно, вернувшись, он не найдет в своем пиджаке Бродяжки, а немного погодя и пачки денег. Последнее обстоятельство не вытеснит первого, ибо он уже давно решил, что чем больше денег, тем меньше купишь на них покоя.

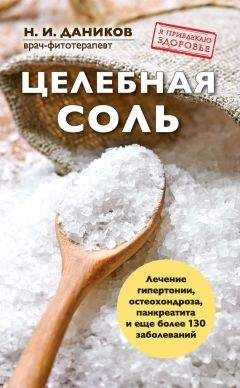
![Анатолий Бергер - Времён крутая соль [сборник]](/uploads/posts/books/258678/258678.jpg)

