Николай Батурин - Король Королевской избушки
Он разгреб лыжей снег вокруг смолистого пня до самого брусничника, затем развел под ним маленький костер. Пока пень занимался, он натаскал сушняку. «Сколько нужно дров, чтобы согреть одну таежную ночь? И если не согреть, то хотя бы осветить?» Затем он подумал: «За все бессонные ночи отоспимся там, где даже будильщикам лень просыпаться, где будильники идут вспять и где нет даже крошечных перечно-красных мышей, способных разбудить кого угодно».
Смолистый пень охотно принимал огонь; языки пламени ползли по извилистым корням, словно бледная кровь по щупальцам раненой медузы. Он думал о том, что существуют понятия-близнецы, сущность которых едина. Как огонь и кровь, сон и смерть, одиночество и свобода… «Нельзя в одно и то же время жить в загоне и быть свободным», — подумал он.
Готовясь к ночлегу, он забыл о своей Мустеле. Зачем он вдруг глубоко зимой собрался заночевать здесь, в тайге? Об этом, пожалуй, пришлось бы не раз спросить, прежде чем последовал бы ответ, что, видимо, не без причины. Распоряжаясь вещами, своими немыми подручными, он то посмеивался над чем-то, то становился серьезным, то грустил, то радовался, то становился радостно-грустным. Он мог быть одновременно и тем и другим, если верить его лицу.
Он выложил содержимое бурака на перевернутую лыжу, туго набил снегом чайник и поставил на огонь. Тут ему пришло на ум, что легкий утренний завтрак оказался вкуснее несъеденного обеда. Он взял ячменную лепешку и мороженой рыбы и отнес своим церберам. Те на еду даже не взглянули — опять, злобно повизгивая, уставились кверху. «Мустеле тоже отнести или как? — спросил он у псов, которые, опершись лапами о дерево, нетерпеливо били хвостами. — Завтра, — сказал он, — едва только забрезжит, погасим мы одну жизнь». Он отошел, а собаки вернулись в свои лежки по обе стороны лиственницы.
Он добавил в закипавший чайник пригоршню снега, а когда вода забулькала, бросил туда кусочек плиточного чая, словно осколок спрессованной ночной тьмы. Подержал чайник еще немного над огнем, пока тот не запел и крышка не начала отзванивать заупокойную по морозу.
Сняв чайник с огня, он поставил его на снег, подложив сосновой коры. Затем вытащил из снега вторую лыжу и сел на обитую камусом подошву — так было и мягко и тепло. Он сидел с огнем спина к спине, пил чай прямо из носика, остудив его прежде снегом. Откусывал попеременно то мерзлую сохатину, то ячменную лепешку, то лук, с особенным удовольствием лук, и запивал все это горячим чаем, — его луженая глотка была к этому привычна. Он пил обжигающий чай, словно растопленное солнце, которое согревало тело и освещало сумрачные своды его души. Он пил чай и думал: что, кроме чая, этой панацеи, божественного напитка для людей безмерного мира, можно еще пить? Только чай. Он ел свою каждодневную пищу, и это охотничье «от сохатины до чая» было вкуснее, нежели цезарево «от яиц до яблок».
Покончив разом с обедом и ужином, он завернул остатки еды в салфетку и сунул в карман бурака — до следующего раза. Только когда это будет? Этого он не мог предвидеть, как и всего остального.
Повозившись еще полчаса со своим кипетливым чайником, он нехотя отставил его в сторону, чтобы встать, поворошить угли и приготовить лежак. Внутренние монологи кончились, а жалобы усталого тела стали слышнее. Он встал, расправил спину и посмотрел исподлобья на лиственницу, что стояла там, в темноте, еще более устрашающая и громадная, еще более величественная со своей раздвоенной верхушкой, будто поднятыми в проклятии руками. Ему чудилось, будто кто-то вставал рядом с деревом, закрывал и открывал двери дня, украшал ночное небо, словно новогоднюю елку, а потом сжигал ее без жалости на костре зари. Кому на радость, а кому и на горе. Великий Неведомый, в чьей власти был и его завтрашний день. Он еще раз окинул взглядом темный ствол дерева и повернулся к костру: «Ах ты моя рыжекосая подружка».
Разбрасывая искры, прожигая ими дырки в темноте, он отгреб в сторону головешки и угли и сложил из них три костра поменьше. Затем набросал на теплое кострище пихтовых веток и лег, задвинув бурак под голову. Слушая, как хрустят пальцами костры, как мороз передает от дерева к дереву свои послания, он глядел в ночное небо, где в желтых глазах гиен светилось миллионолетнее зло. Что по сравнению с ним все зло человеческих поколений! Он думал об истоках добра и зла, их земных руслах. Он думал о том, что с людьми нелегко, но с ними нужно ладить, нужно ладить с самим собой. И хотя он не жил среди них, не летел с ними в одной карусели, а глядел со стороны, он все равно испытывал то же головокружение. Издалека он видел их лучше. Как далеко нужно отойти, чтобы разглядеть человека? Чтобы наконец увидеть и то, чего в нем нет? Может быть, на ту далекую звезду, что виднеется как минускул среди маюскулов? Но достаточно ли она далека для этого?..
Подступал сон, мягко размывая течение его мыслей. Казалось, исчезни сейчас в небе пара звезд или пара миллионов — ничего там не изменится. Небо напоминало скорее влажный асфальт, отражающий городские огни, или гладкую, усеянную огоньками бухту залива. И вдруг здесь, среди пропитанных смолой лесов, в нем поднялась нестерпимая тоска по городам, как, бывает, на солдата в самый разгар отпуска вдруг находит тоска по казарме. И он торопливо начал воздвигать в себе желанные города, летние города ранним утром — с шуршанием шин на умытых площадях, с зарождающимися радугами витрин, с дворниками, сметающими в кучу брошенные слова, облетевшие листья… Утренние лица горожан показались бы ему таежными цветами после грозы. Он увидел бы бегущих в школу ребятишек, похожих друг на друга, как капли росы на листьях тростника; деловитых продавщиц, подымающих веки своим ларькам; ребячливых стариков, спешащих навести последний глянец на дело своей жизни. Мимо него торопливой походкой, с покачивающимися, словно буйки на гладкой воде, бедрами прошли бы девушки, сопровождаемые флотилией взглядов. Как билетер, пропускающий публику в кинозал, он увидел бы на лицах встречных освежающее выражение неведения. Он увидел бы раннее утро летнего города.
День он проведет бездумно. Начнет с того, что купит в киоске пачку газет и журналов, потому что продавщицей окажется маленькая, шустрая, похожая на его мать старушка. Своим острым обонянием он уловит запах свинца и типографской краски, когда с газетами под мышкой завернет в маленький сквер, где садовник обстригает длинными ножницами шевелюры кустов. Он поищет некрашеную скамью, чтобы провести ладонью по гладкой, будто живой древесине, но тщетно: они красят там всё — и губы, и дерево, и говорят, что это красиво и предохраняет от разрушения. Газеты с чуждым запахом он оставит на скамейке, потом вернется, согнет пачку пополам и сунет в одну из урн, что возвышаются там на высоких столбиках с капителями, словно бюсты тупости. Если уж он почувствует тоску по городам, то это будет прежде всего тоска по живому человеку, по улицам, где скапливается толпа, пестрая, как разноцветные листья, плывущие по течению осенних рек.
По дороге из сквера на улицу он рассует деньги по наружным карманам, чтобы сподручнее было потом доставать. Он возьмет с собой весь зимний заработок, пачку разноцветных бумажек, еще менее долговечных, чем осенние листья, и направится широким, бесшумным охотничьим шагом к центру города. Будет безветренно, солнце начнет лить свою лаву; запа́хнет расплавленным асфальтом и парфюмерией от идущего впереди мужчины артистической внешности.
Утренние сумеречно-влажные улицы станут теперь светлее светлого, ранняя полутишина заполнится разноголосицей и гомоном всеобщего торга. Шагая так, он вдруг оживет и повеселеет, как в цирке перед началом представления, и с любопытством начнет заглядывать в витрины по обеим сторонам улицы. Ему очень захочется что-нибудь купить, но он с сожалением обнаружит, что ему ничего не нужно. И все-таки он купит пару лакированных ботинок, потому что за прилавком окажется смуглая и стройная, как пихта, продавщица.
В павильоне «соки-воды» он забудет эти ботинки под стойкой на пластмассовом крючке. Ну и бог с ними, все равно они были бы ему малы. Возле тира его взгляд остановит вывеска — голова оленя с невиданными дотоле рогами. Он зайдет в тир, чтобы поглядеть, что это за олень, но увидит там дюжину пацанов. Он поделится с ними пульками, пробабахает больше часа, выступив поначалу довольно скромно. Из своей малокалиберки он попадает в муравья, а здесь каждый второй выстрел уйдет в «молоко».
— Дрянная винтовка, — скажет он тирщику. Неприятный, широкий, как ящик, человек с пятнистой плешью, точно загаженное куриное яйцо, осклабится:
— Это дрянная винтовка для тех, у кого нет хорошей руки… Эта винтовка бьет хорошо.
— Эта винтовка бьет хорошо в никуда, — скажет он.
Тирщик пожмет своими квадратными плечами:
— Здесь винтовки могут бить и похуже… На войне другое дело — там они должны убивать наповал.

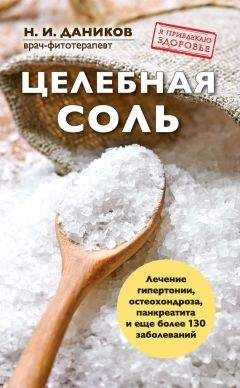
![Анатолий Бергер - Времён крутая соль [сборник]](/uploads/posts/books/258678/258678.jpg)

