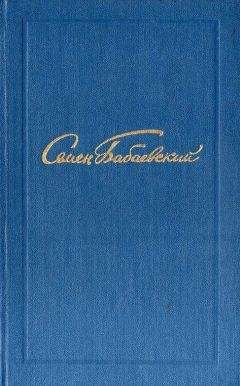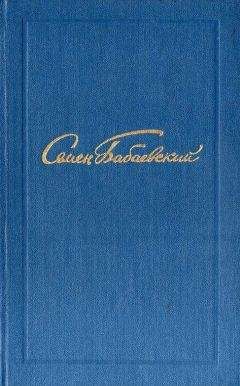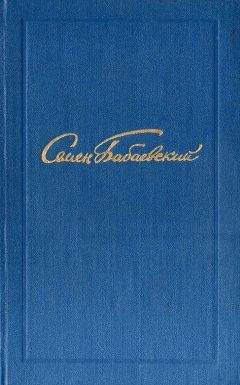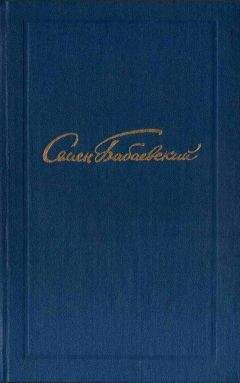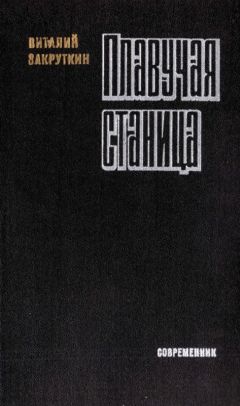Семен Бабаевский - Собрание сочинений в 5 томах. Том 5
Мысль о том, что не только Максиму и Дмитрию, а многим холмогорцам неведомо то, что известно только ему, Евдокиму Беглову, была для него мыслью излюбленной и не новой. Всякий раз, когда Евдоким выпивал, — а это случалось часто, — он еще больше был уверен, что только ему известны все премудрости жизни. В такие минуты он забывал о своем жалком существовании, гордился собой, своим многолетним терпением, тем, что в Холмогорской давно уже никто не носил казачью одежду, и лишь один он, Евдоким Беглов, носил. Он не обращал никакого внимания на то, что холмогорцы смотрели на него как на странного пришельца: кто с жалостью, кто с усмешкой, а кто и с нескрываемой неприязнью. Он частенько уверял Варвару, что только он один живет правильно, то есть вольным казаком, ничего не делает, никому не подчиняется, и такой своей жизнью доволен. Все же остальные холмогорцы, особенно те из них, кто отличался трудолюбием, усердием, такие, как его брат Василий, по убеждению Евдокима, жили неправильно, и эта их неправильная жизнь, по его мнению, началась давно, еще в том памятном году, когда Евдоким лишился своих коней и угодил на лесоразработки.
Варвара еще не вернулась с работы, Евдокиму не с кем было ни поговорить, ни, как он любил выражаться, «некому открыться душой». «Варюха моя разлюбезная, да знаешь ли ты, кто я такой? — говорил он, обращаясь к Варваре. — Эка беда, женщина ты простая и ничего не соображаешь. Отвечай: кто я есть на этой земле? А! Не можешь ответить, потому что ничего ты не знаешь»… Евдоким расстегнул звякнувший наконечниками кавказский поясок, снял старенький бешмет, стащил с ног вонючие чобуры с грязными подстилками, лег на койку и замурлыкал какой-то старинный мотив. Голова приятно кружилась, и ему было хорошо и лежать, и думать — обо всем, что приходило на ум. Часто думал о Холмогорской — родная станица и радовала, и огорчала. «Да, ничего не скажешь, переменилась, родимая, с годами разрослась, раздвинулась. Лежит асфальт, польет дождь, и блестит улица, словно бы лакированная. Позаимелись тротуары, повелась разная культурность, торчит труба, как на заводе, есть мастерские, гараж, молочный завод, и опять же что-то еще будет воздвигаться на холмах. Ну и что из того, что переменилась станица? Асфальт, верно, блестит, ходить по нему хорошо, не споткнешься. А кто по нему идет? Евдоким Беглов, казак в бешмете и с башлыком за плечами. Казачья старина-старинушка все одно живет, не помирает, и это я, Евдоким Беглов, знаю, что все те перемены, каковые свершились в станице и вокруг нее, перемены временные, и как бы ни старался мой братец и такие активные, как он, а наше, казачье, не пропадет, не сгинет. Вот эта моя заглавная тайна моим племяшам-грамотеям неведома, а мне, Евдокиму Беглову, ведома», — размышлял он, вытянув ноги и закрыв глаза.
В голове сладкое кружение, мысли бегут и бегут, легко, свободно, одна опережает другую, и нету им конца. В такие минуты вспоминалось почему-то одно только хорошее, радостное, поэтому после Холмогорской Евдоким начал думать о тех далеких годах, когда и он сам, и Варвара были молоды и когда он любил ее, а она любила его. Давняя их любовь все еще и теперь как бы издалека виделась Евдокиму необыкновенной, даже какой-то сказочной, неземной, похожей на сон… Пролетела годочки, и кажется, не было ни лунных августовских ночей, ни темного обрывистого берега Кубани. А ведь все это было, потому-то оно и не забывается. Они шли по берегу навстречу бурному потоку, поперек которого, подпрыгивая и как бы радуясь, что видит на берегу Евдокима и Варю, протянулся золотистый поясок луны. То была пора их бесшабашной юности, когда они не думали, куда идут и зачем идут, и когда им было совершенно безразлично, идти ли, взявшись за руки, молча и тихими шагами, или, смеясь и крича, бежать наперегонки. Даже сейчас не верится: как ни старался Евдоким, а не мог догнать быструю, тонконогую девчушку с растрепанными косичками. Когда она остановилась, он, запыхавшись, подбежал к ней, обнял ее, они оглянулись и ахнули: где же Холмогорская? Ее не было видно.
— Отсюда мы поплывем по бурунам! — сказала Варя, словно они и ушли так далеко только для того, чтобы обратно поплыть по течению. — Знаешь, Евдоша, как мы быстро домчимся!
— Как это так — поплывем? Да ты что!
— А вот так и поплывем, очень даже просто!
Варя нагнулась, через голову стащила узкое в талии платьице, чалмой намотала его на голову. В таком лунном сиянии, на этом пустынном берегу он впервые видел ее в одном купальнике и, радуясь и следуя ее примеру, разделся. Она помогла ему прикрепить на голове рубашку, брюки, затянуть все это ремнем, и они не раздумывая бросились в реку. Буруны подхватили их и понесли, и на воде, покачиваясь и подпрыгивая, темнели две большие головы.
Возле станицы вышли на берег, оделись. Озябшие, но веселые и счастливые, взялись за руки и снова пошли, не зная, куда и зачем. «И как же могло случиться, что я женился не на Варе, а на Канунниковой Ольге?» — думал Евдоким, не открывая отяжелевших век. — «Подвернулась богатая невеста, вот я и попер. Кто знает, женись я на Варе, может, ничего со мной и не случилось бы, и жили бы мы… А как бы мы жили? Так, как зараз живем? Зараз я ей чужой. Она баба сердешная, приютила из жалости, и хоть мы живем в одной хате, а того, что когда-то было промежду нами, не осталось ни у нее, ни у меня… А вот месячная ноченька да бурлящая Кубань остались… У Вари была своя жизнь, когда-то у нее был муж, добрый казачина Кочетков. Погиб, сердешный, в войну. Его черкеску и бешмет Варя отдала мне. „Все одно, говорит, эта старинная обмундирования так и сопреет в моем сундуке. Бери, носи ее, будет хоть один казак на всю Холмогорскую“»…
Еще одна радостная мысль всякий раз приходила ему на ум, когда он выпивал, — это были трогательные до слез воспоминания о конях. И думал он не о тех конях, которых ночью в пургу угнал из станицы и в Эльбрусском ущелье сам чуть было не погиб, — то была не радость, а томящая, ржавой окалиной прикипевшая к сердцу боль. Он думал о тех жеребятах, которых он с такой любовью растил, и тогда улыбка невольно озаряла его волосатое лицо. Как живые, виделись ему жеребята-двухлетки. Как-то летом, перед вечером, сразу же после свадьбы, их привел во двор тесть, Яков Канунников, привел без уздечек, с привязанными за шеи веревками. Жеребята эти были пузатые, с клоками грязной, свалявшейся на боках шерсти, с тоскливыми, ко всему равнодушными глазами. Гривы никогда еще не видели гребенки, в них комками набились репейники, челки на лбах не были подрезаны.
— По случаю у цыган купил, ты не бойся, сделку оформил по закону, в станичном Совете, — басом говорил Канунников. — Так что все в порядке. И ничего, что они на вид такие замухрышенные, ить росли-то без присмотра. Цыгане, известно, к коню относятся как к скотине. Но зато оба конька — погляди на них сбоку и спереди — это же дончаки первейших кровей… Дарю их тебе, Евдоким, и Ольге сверх всякого моего приданого. Бери, расти и люби, как полагается любить коня казаку, и через год увидишь, какие это будут славные кони, залюбуешься…
Евдоким осторожно взял веревки, привязанные к шеям жеребят.
— Спасибо вам, Яков Гаврилович, за вашу доброту…
Ни с чем, пожалуй, нельзя было сравнить те волнующие минуты и часы, когда Евдоким, поставив жеребят в телячий закут (конюшни у него еще не было), кормил их принесенной с речной поймы свежей травой, овсом, поил теплым, разведенным отрубями пойлом, когда он, засучив рукава и сказав Ольге, чтобы принесла ведро горячей воды, с мылом отмывал им спины, бока, скребницей снимал застаревшую, необлинявшую шерсть.
— Ах вы мои мальчуганы, ах вы мои молодцы! — говорил он ласково. — Ах вы мои быстроногие красавцы!
Оба жеребенка были темно-гнедой масти, с белыми, шириной в три пальца, полосками на лбу. Одному Евдоким дал кличку Орленок, другому — Ветерок.
— Орленок ты мой быстрокрылый, — говорил он, поглаживая тонкую шею и гриву одному жеребенку, потом обнимал голову другого. — Ах ты, Ветер-ветерок, лети быстрее птицы…
На дверном откосе сделал зарубину-метку. Каждый месяц подводил к этой метке жеребят и воочию убеждался, как они заметно подрастали, делались стройными, веселыми.
Через год, летом, Евдоким повел своих любимцев на Кубань купать. Пришлось проходить через всю станицу, и он нарочно шел не спеша. Ему приятно было видеть, как из дворов выходили казаки и как они с нескрываемой завистью смотрели ему вслед. Одни, не утерпев, спрашивали:
— Евдоким, и где раздобыл таких красавцев?
Евдоким отвечал с гордостью:
— Купил-то жеребят и не красавцами, а вот выходил, взрастил — это да!
Другие интересовались:
— Какой породы?
Евдоким тем же гордым голосом отвечал:
— Известно, разве не видишь? Дончаки, самых что ни на есть отборных кровей!
…Все сгинуло, все пропало. И как только Евдоким подумал об этом, как только вспомнил, что лежит на чужой койке и в чужой хате, глаза его наполнились слезами. Он повернулся на бок, прижал кубанку к лицу и тяжело вздохнул. Видно, проходил хмель, а вместе с ним кончались радостные воспоминания. «Хоть бы уснуть, что ли, — думал он. — Не спится тебе, Евдоким, не лежится, и никому неведомо, за каким чертом ты пребываешь на этом свете»… Долго лежал, не шелохнувшись и ни о чем не думая. И вдруг он увидел машины. Их было много — гусеничные, колесные, шли по две в ряд, слышался гул, лязг железа. Евдоким выбежал в степь, навстречу машинам, замахал руками, стал кричать что есть мочи: «Чего прете на холмы! Не смейте туда ехать! Ни за что не дозволю! Пожалейте хоть не меня, а моего брата Василия»… И машины вдруг остановились, умолкли моторы, и в наступившей тишине к Евдокиму подошел молодцеватый парень, протянул руку. «Спасибо, дедусь, что выбежали и предупредили, а то мы сдуру поперли бы прямо на холмы»…