Александр Рекемчук - Избранные произведения в двух томах. Том 1
Зато поспели. В ресторане «Дубки» посидели на высоких табуретках у бара, выпили по рюмке коньяку. Потом станцевали твист: Витька умел. Взяли по фужеру красного, что сосут через соломинку. Джаз ударил шейк. А этого Витька не умел. И тут уж, конечно, к ней подкатился какой-то хмырь болотный, расшаркался, уволок Алену. Что поделаешь — Витька не умел шейк. Потом они заказали еще по рюмахе коньяку. А оркестр заиграл танго «Букет моей бабушки». Хмырь болотный снова, было, навострил когти, но Витька сам повел Алену. Затем пососали еще красного, а джаз напоследок рванул «Летку-Енку». Тут все встали в очередь, будто за квасом, Алена оказалась в очереди между Витькой и хмырем: Витька держал ее за поясницу, а она хмыря. И когда отпрыгали это дело, Витька заметил, как хмырь сунул в руку Алене бумажку. «Дай-ка», — сказал он ей, вернувшись за стойку. «Что?» — изумилась она. Витька, однако, силой разжал ладошку, отобрал. Заглянул: «181–95…» Интересно, служебный или домашний? Хорошо бы домашний. Звякнуть, а там — мамаша. «Здравствуйте, гражданка. Из милиции. Тут человека задавило, нашли записную книжечку…» Но можно и на службу: «Алло, из вытрезвителя говорят…» У Витьки дома, в деревне, был собственный телефон, один кореш подарил: трубка, на трубке циферблат, проводок. Залезаешь на телефонный столб, контачишь проводок, набираешь номер…
Но на улице Витька бумажку изорвал и выбросил.
Обратно они плыли не спеша.
Алена, перегнувшись за корму, рукой бороздила черную воду, глядела на белую дорожку. Спросила:
— Понравилось?
— Ничего… Уж веселей Хрюнина.
— А зачем ты живешь в этом Хрюнине?
Витька совсем отпустил весла.
— Не знаю, — сказал он задумчиво. — Мне ведь от завода квартиру давали. А Раиса отказалась. Мать ее настроила, конечно. Либо отец… Им без нас тут не управиться: и дом, и огород, сад…
Алена выпрямилась на скамье, присмотрелась к нему зорко — в темноте.
— Витя, а ты себя кем считаешь: крестьянин ты или рабочий?
— Рабочий я, — твердо сказал Витька.
— Нет, — покачала она головой. И рассмеялась: — Ты, знаешь, кто? Ты… люмпен-крестьянин. Понял?
Витька промолчал. Не хотел признаваться, что не понял. Он не знал, как это — обидно или нет: люмпен. Слово-то красивое.
Лодка ткнулась в берег. Он замотал цепь, навесил замок.
Подал Алене руку — сойти.
Но она, вместо этого, скинула туфли и стала тащить через голову платье. Под платьем был купальник.
— Ты чего это надумала?
— А я люблю — ночью.
И сиганула с кормы.
Витька встревожился. Пила ведь она.
Но Алена уверенным кролем — только маленькие, сильно работающие ступни наружу, только взлетают локти — шла от берега. Плавала она хорошо — это он давно заметил.
Азарт подстегнул Витьку. Он живо поскидал с себя все — и рубаху, и клеши, — разбежался, прыгнул, нырнул.
И как ни отменно плавала она, а он ее все же догнал. Поднырнул, вслепую зашарил в воде, поймал ногу. Нога оттолкнула его, выскользнула…
Когда Витька вынырнул, отдуваясь и смаргивая капли, она уже была далеко. И плыла сейчас ленивым брассом, не погружая головы.
Он засек взглядом то место, где она сейчас была, сделал в уме поправку на движение цели, набрал полную грудь воздуха и тихо ушел под воду.
Теперь он поймал ее всю целиком. Обхватил крепко, перевернул навзничь, а сам оказался сверху. Тело ее было теплым, как эта ночная вода.
— Не смей, — сказала она и, отстранив его, на спине поплыла к берегу.
Он зашлепал следом.
Алена отжала мокрые волосы, взяла из лодки свое барахлишко и, осторожно ступая, направилась вверх по тропинке.
Витька догнал ее, обнял снова. Но теперь ее тело было так же холодно, как холоден был ночной воздух.
— Н-не смей… — Зубы ее выбили дрожь. — С-слышишь?
Он отпустил.
Она скрылась в палатке.
Витька подобрал с земли штаны, нашел в кармане «Дымок», вытащил сигарету — она сразу размякла в его влажных пальцах. Стал чиркать спичкой по коробку, тоже враз отсыревшему.
Совсем было тихо. Лишь где-то на задворках, у Нюшки Крайней, переругивались собаки.
— Алена…
— Что? — отозвалась она из палатки.
— А как же с этим… икона бабкина… Взять?
Он замер. Даже озноб унялся вдруг, когда Витька понял, что это — последняя надежда.
Палатка тоже затаилась.
Потом он услышал:
— Возьми.
5И все это — своими глазами, своими ушами — видела и слышала баба Нюра. За полночь пришла к ней Раиса, сообщила, что Витька ночевать не пришел. Поревела и заснула тут же, в боковушке.
Баба Нюра тихонько прокралась по двору к палатке, но там вроде никого не было: застегнуто снаружи. Тогда она отправилась на берег и обнаружила, что лодки на месте нету. Сопоставив все, смекнув, что и как, баба Нюра заняла наблюдательный пост в скворешне, в дверце которой был зрачок, и этот зрачок смотрел прямо на палатку. Сидеть там бабе Нюре было неудобно, и ее одолевал сон, но старушечье любопытство, подстегнутое мстительным чувством, поддерживало ее в этом бдении.
Зато дождалась. И все увидела, все услышала — своими глазами, своими ушами.
Рано утром баба Нюра сделала полный доклад Матвеичу и Клане, они поимели совет, и первым же рейсом «Ракеты» бабка поехала в Тетерино.
Вскоре и вернулась.
А к обеду в Порфирьевский дом пожаловали гости: Степан да Егор, старшие Витькины братья.
Не больно часто они вот так сродственно встречались, хотя от Хрюнина до Тетерина рукой подать. Но потому лишь, что все были занятые люди. Служили. Ведь тетеринский колхоз, как и хрюнинский, с некоторых пор приказал долго жить: землю взял пансионат, а лес отошел к зоне отдыха. Ну, что ж, погоревали, покручинились исправные трудолюбы, тетеринские колхозники, получили паспорта и стали устраиваться, кто где сумел. Степан Баландин заведовал лодочной станцией и еще числился ночным сторожем при сельпо. Егор в пансионате работал, на поливочной машине, а также имел полставки в спасательной службе при лодочной станции. Оба женатые, детей куча, мать в параличе, а домишко тесный. По этой причине Баландины не сильно скорбели, когда Витька, младший брат, после женитьбы перебрался в Хрюнино.
— Здравствуйте, здравствуйте, — ласково встретил родню Матвеич и повел гостей во флигелек. — Давно не видались.
— С прошлого лета. Ровный год, — подтвердил Степан. — Вот и надумали навестить. А может, и порыбачим вместе — на лодке мы, удочки с собой. Тут у вас все же потише, не так еще распугали рыбу…
— Это с удовольствием, — согласился Матвеич. — Побалуемся. Лещ нынче брать должен.
Во флигельке хлопотали баба Нюра с Кланей, выставляли на стол угощение: селедку, сало, редисочку, лук зеленый.
Витька тут же был — только что глаза продрал, еще неумытый сидел на топчане.
— Здорово, брат, — сказал ему Степан. — Ну, как жизнь?
— Нормально… — ответил Витька.
Он сразу почуял неладное в этом неожиданном появлении братьев. Однако еще не мог уловить причины.
— Сядем, — пригласил Матвеич.
Все были в сборе. Только Раиса отсутствовала: так ведь ей нельзя, седьмой месяц.
— И ты садись, Витя, — отдельно позвал его тесть.
Ужас, до чего Витьке неохота было садиться. С утра пораньше. Впрочем, какое утро — день. И нельзя было, кроме того, отказаться.
Он сел.
Матвеич разлил в граненые лафитники из четвертной бутыли. Витька по запаху догадался: спирт разведенный, которым доплачивали за постой дачницы.
— Ну, будем здоровы! Дорогим гостям…
— Хозяевам тоже.
Все выпили, кроме бабы Нюры. Она не терпела хмельного зелья. Тверда была в своих богомольных правилах.
Между прочим, всю Витькину родню она тоже не терпела, как и самого Витьку. И больше того: ко всем тетеринским баба Нюра относилась брезгливо. Потому что тетеринские были столоверы. Не староверы, нет. Староверы — это старообрядцы, что двумя перстами крестятся. А тетеринские — столоверы. Баба Нюра в точности не знала, какой у них там обычай, но слыхала, что ездят они в Москву. И там за столами сидят. Не молодежь, конечно: молодежь теперь везде одинакова — ни бога не признает, ни черта. А вот старики тетеринские — они и есть самая пакость. И воздается им по заслугам: отец этих Баландиных ушел, семью бросил, а мать который год лежит колодой…
Однако сегодня баба Нюра проявила снисхождение:
— Сальца берите, свое, хорошее, этой зимой резали. — И спросила: — Корову-то продали?
— Продали, — сказал Степан. И вдруг захохотал.
А за ним Егор закатился смехом.
— Ох, история была! — начал рассказывать Степан. — Продали мы Зорьку в Пушкино. Отвели… А на другой день обратно пришла. Своим ходом. Ей, право.
— По Ярославскому шоссе, — добавил Егор. — А там ведь какое движение! На Мамонтовском переезде, люди видели, под шлагбаум — шасть… И прямо к дому заявилась. Нашла дорогу. Ну, как собака.

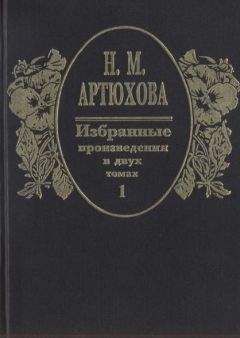
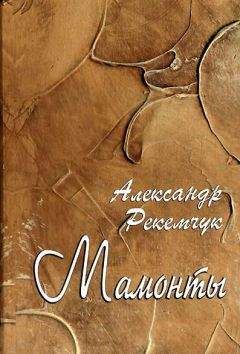

![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/uploads/posts/books/240148/240148.jpg)