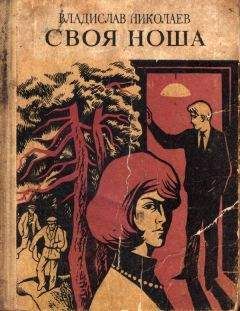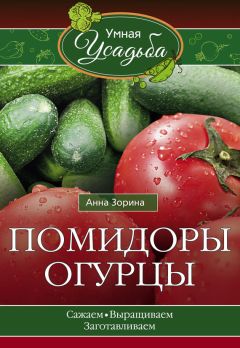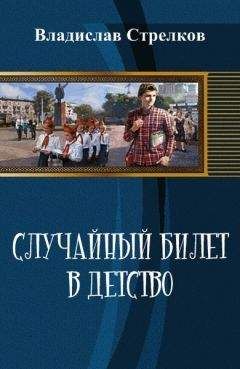Владислав Николаев - Мальчишник
— Обязательно, — с готовностью откликнулась Гунта, походившая без шапочки и с распущенными по спине переливчатыми светлыми волосами на сверстницу моей дочери-шестиклассницы; и сама Ксеня, верно, тоже принимала ее за свою сверстницу, ибо только на нее одну и смотрела влюбленными глазами.
— Тогда за дело! — скомандовала жена.
И вот уже кто-то копает на грядке картошку, кто-то моет и счищает с нее молодую нежную кожицу в тазу у колодца, кто-то срывает в парнике бородавчатые огурцы и краснобокие развалистые помидоры, кто-то дергает лук, чеснок, свеклу, морковь, щиплет салат, щавель, петрушку, укроп, кто-то малыми оберемками подтаскивает все это к кухонному столу, где, засучив рукава и вооружившись тяжелым секачом, утвердилась плотная дебелая Иветта; кто-то беремями выше головы таскает дрова и растапливает печку…
С сумкой в руке с нерешительным видом замялась возле меня Ксеня, потом, привстав на цыпочки и дотянувшись до уха, спросила шепотом:
— Можно, чтобы Гунта со мной за хлебом пошла?
— Сейчас спросим ее. Гунта! Ксеня тебя в магазин приглашает.
— О, я польщена!
Со счастливыми лицами, будто давно не видевшиеся подружки, они взялись за руки и тут же хотели удрать, но я остановил их.
— Хлеб у нас вкусный — особой деревенской выпечки. Идет вдвое против городского. Так что сразу берите буханок десять.
— Мы так много хлеба не едим, — ужаснулась Гунта.
— Съедите.
Сварили ведро молодой картошки, из свежей зелени намешали со сметаной двухведерный эмалированный таз салата. В мое отсутствие жена и Ксеня напасли соленых и маринованных грибов, наварили из лесных и садовых ягод варенья, и сейчас все это тоже стояло на столе, накрытом на веранде. Лишь Гунта с Ксеней подкачали, принесли не десять буханок, как я им заказывал, а только половину. Корка еще дышала теплом и пахла дразнящим духом.
— Испугались, что не донесете? — не сдержал я укоризны.
— Я хотела все десять взять, — оправдывалась Ксеня, — но Гунта не велела.
— Ну, Гунта дочь Алдиса, если твоим друзьям хлеба не хватит, тебе несдобровать. Растерзают, узнав, что это ты их подвела.
— Ксеня меня защитит.
Давненько уже за длинным столом на веранде не собиралось столь много народу, давненько за ним не ели и не пили с таким воодушевлением, с каким ели и пили в этот день. Поначалу слышались лишь стук ножей да вилок, потом ручейками зажурчали свежеструйные речи. Когда гости, забывшись, переговаривались на своем языке, сидевший рядом с моей женой Биллс переводил:
— Говорят: чувствуют себя как дома, как у мамы с папой за пазухой. Спорят, у кого вы остановитесь, когда приедете в Ригу. Договорились: по очереди поживете у каждого, а по вечерам за таким же столом будем собираться все вместе.
Пышногрудая Иветта сказала что-то такое, от чего зазвенели от хохота стекла веранды, а у нее самой на широких щеках солнечными зайчиками заиграли смешливые треугольные умилки. Биллс перевел:
— В детстве Иветте бабушка всегда говорила: кто много ест, тот хороший человек.
О, в таком случае за столом собрались не просто хорошие, а сверхзамечательные люди. Как я и предполагал, хлеба не хватило. Узнав, что маху дала Гунта, друзья потянулись руками к ее ушам, но моя дочь заслонила ее собой.
Наутро мы с Ксеней проводили гостей на вокзал.
Мальчишник закончился.
Спасибо, мои земляки, спасибо, юные латыши, спасибо, люди!
Шестеро
Глава первая
Их было шестеро. Николай Коркин — начальник партии, Герман Дичаров — техник, Маша — геолог, Лева — повар, Вениамин — рабочий и, наконец, Александр Григорьевич — проводник и конюх в одном лице.
Они без тропы брели вверх по приполярной уральской речке Малая Тыкотлова.
Была светлая северная ночь. В молочно-белесых сумерках завороженно-тихо спали деревья — ни один листочек не дрогнет, ни одна иголка не упадет, никакая ветка не шевельнется, словно и ветер тоже спал, свернувшись где-то под мохнатой елью на прелой теплой хвое. Спали птицы, спали рыбы. Немотою и недвижностью отличается летняя ночь близ вершины нашей планеты и от вечера, и от раннего утра.
Над речкой неслышно поднимался волокнистый туман, по низинам заползал на берег и жемчужными капельками росы оседал на траве. К середине ночи высокая пойменная трава вся стала сизой от росы.
Шагавший впереди Коркин вымок по грудь, хлопчатобумажные спецовочные штаны тяжело обвисли и шлепали по коленям, в складки сапог набились красновато-рыжие семена мятлицы.
В затылок Коркину храпела лошадь — дышала тепло и влажно. С ее раскачивающейся морды срывались клочья пены и шлепались в мокрую траву.
Лошади умаялись. Гнедой широкогрудый мерин, которого вел в поводу Александр Григорьевич, ложился в каждом болотце. Проводник изо всех сил дергал его за повод и кричал возмущенной скороговоркой:
— Жирать первый, а ходить ленивый! Чужая спина любишь! Я из тебя выбью эту дурь!
Александр Григорьевич — зырянин. У него легонькое, сухое тельце, совершенно потерявшееся в широкой малице; под капюшоном прячется лишенное растительности, изрытое крупными рябинами — с копейку величиной — широкое бабье лицо; если бы не знать, что он недавно оженил последнего из семерых сыновей, его бы и за мужика не принять, а между тем он настоящий мужик., воевал в финскую и Отечественную. Рассказывает: в финскую командование разрешило ему перейти линию фронта, и он четыре месяца охотился в одиночку по заснеженным лесам, расстреливая сидевших на деревьях неприятельских «кукушек».
Вот такой проводник у Коркина. Старик еще скор на ногу и проворен. Да и как быть другим, ежели всю жизнь дышать целительным воздухом, есть свежую медвежатину, заедать нежнейшими хариусами, запивать не вином — холодной родниковой водой.
Мерин лежит в осокистой мочажине, враждебно косится на проводника разноцветными глазами — один фиолетовый, другой желтый, бельмастый, — старый мерин. И когда Александр Григорьевич оказывается совсем близко от его морды, конь вдруг раздвигает дряблые, в белых пигментных пятнах губы и хряскает зубами.
— Ах ты, чужеяд! — вконец выходит из себя проводник. — Закусить вздумал! На вот тебе! На! — и он пинает мерина в бок. Слишком сильно ударить боится, потому что ноги обуты в легкие брезентовые бродни — как бы пальцы не зашибить.
Мерин не шевелится, только после каждого пинка волной прокатывается под кожей ознобная дрожь.
Александр Григорьевич прибегает к крайнему средству. Берет обеими руками мерина за храп и, напружив все свое легонькое тело, вдавливает лошадиную морду в воду, по глаза вдавливает, и сам чуть не по плечи уходит в гнилую болотную жижу. Бока мерина вспучиваются, тяжело ходят, мерин задыхается. Не вынеся муки, с неожиданной легкостью он вскидывает круп и вскакивает сначала на задние, потом на передние ноги. Проводник бегом выводит его на сухое место.
Оглядев и подправив подмоченные вьюки, Александр Григорьевич закидывает полу перешитой из серой солдатской шинели малицы и достает из кармана штанов плоскую деревянную коробочку — табакерку. В коробочке — истолченный в порошок, пропитанный одеколоном табак. Старик прихватывает заволновавшимися пальцами щепотку черного порошка и, закатив глаза и запрокинув голову так, что капюшон сползает на спину, закладывает поочередно в обе ноздри. По рябому широкому лицу пробегает блаженная судорога, глаза счастливо влажнеют, нос набухает красным, и точно выстрелы по спящему лесу прокатываются дуплетом: «Ах-чи! Ах-чи!»
Пока проводник поднимал мерина да заправлялся понюшкой, подтянулся весь караван. В той стороне, откуда шли, пролегла в дымчато-голубой траве глубокая темная тропа.
Поискав глазами, Коркин разглядел Машу. Она стояла неподалеку, прислонившись спиной к пятнистому стволу березы, передыхала, ждала, когда караван двинется дальше. Руки бессильно висели вдоль тела. За черной сеткой накомарника сумрачно блестели измученные глаза. Коркину в них почудились слезы, и у него от жалости заныло тоскливо сердце. Ну чем он может ей помочь? Отобрать рюкзак, взвалить себе на плечи или развьючить одну из лошадей и посадить верхом. Но ведь слезы выдавила из нее совсем не усталость — другое, другое…
Маша упорно смотрела в его сторону, будто звала из-за черной сетки мерцающими глазами — подойди, спроси.
Коркин стиснул зубы, повернулся и пошагал по высокой мокрой траве вперед.
2На оконных стеклах лежит ворсистая пыль, дневной свет цедится в квартиру будто сквозь частое сито, мутно и вяло.
На крашеном полу, на полированных шкафах и столах седая домашняя пыль походит на снежную порошу: тронь слегка, дыхни посильнее — и взовьются белые вихри.
В переднем углу свалена зимняя одежда, пахнет от нее нафталином. Кристалликами нафталина, словно зернистой солью, посыпаны и свернуты в трубку ковры.