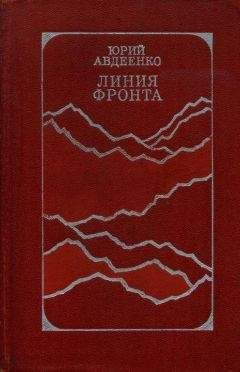Юрий Авдеенко - Дикий хмель
— Это недостаток?
Буров смотрит испытывающе, скрестив руки на груди. По благодушному выражению его лица ясно, что сегодняшняя пикировка со мной доставляет ему удовольствие.
— Если достоинство, то лишь в перспективе.
— Мудрость — основное достоинство человека. Оно приходит с годами, — подражая ему, нравоучительно произношу я.
— Отлично! — Буров изволил встать со стула. — Общение со мной не проходит для тебя даром. Про мудрость сказала правильно... Между прочим, есть старая восточная пословица. Она звучит так: «Лучше, когда стадом баранов предводительствует лев, чем когда стадом львов предводительствует баран».
Мой муж наверняка считал себя львом.
— Как интересно! — не без издевки воскликнула я. Добавила обиженно: — Может быть, ты все-таки поздравишь меня?
— Я поцелую тебя. Но с условием... Закрой глаза.
Это было совсем не похоже на Бурова. Закрывая глаза, я увидела в его руке маленький черный коробок. Потом он что-то делал пальцами на моем затылке.
— Теперь можно? — спросила я.
— Разумеется.
Я давно, еще до замужества, выбросила на помойку старый, выкрашенный охрой гардероб, которым пользовались мы с мамой. Сейчас на его месте стоял румынский шкаф из дуба, с зеркалом во всю створку.
Буров подарил мне кулон. На золотой цепочке, изящной и, видимо, дорогой, висел простенький маленький камень голубовато-зеленого оттенка.
— Это яшма, — сказал Буров, — на этой цепочке висел рубин. Пришлось обратиться к ювелиру... Понимаешь?
— Спасибо, — сказала я. И, конечно, поцеловала его.
— Ты не понимаешь, — настаивал он. — Ты родилась в марте. И твой камень — яшма. Каждый месяц имеет свой камень-талисман. Январь — гранат, февраль — аметист, март — яшму, апрель — сапфир, май, июнь — агат, изумруд, июль — оникс, август — сердолик, сентябрь — хризолит, октябрь — берилл и аквамарин, ноябрь — топаз, декабрь — рубин.
— Неужели ты знаешь все на свете? — в тот момент я была уверена, что это так. И в голосе моем не было ни капли иронии. Чистое восхищение.
И Буров был горд собой. И очень доволен. Как спортсмен, выигравший соревнования:
— Я поздравляю тебя. Ты умница. Я даже не ожидал, что ты окажешься такой умницей.
В комнате было много света, розового закатного света. Пахло цветами, листьями, простым домашним уютом. Мне хотелось смеяться. Я была счастлива...
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Закрываю дверь, обитую, как диван, войлоком и коричневым кожзаменителем. Гудение конвейера становится тише, но не исчезает совсем, потому что над дверьми узкая рама в одно стекло. Похоже, что рама дребезжит, жалостливо, тонко. Впрочем, может, я ошибаюсь. У меня с утра болит голова, и в ушах стоит негромкий звон, словно мне, как козе, привязали на шею колокольчик.
Широкий встает из-за стола и, с весенней щедростью расточая улыбку, выходит навстречу. С тех пор как я вышла замуж за Бурова, Широкий постоянно оделяет меня своей улыбкой. В ответ тоже приходится улыбаться, чаще без всякого удовольствия. Но со стороны вполне может сложиться впечатление, что и начальник цеха, и я рады каждой встрече друг с другом до умопомрачения.
На Широком сизая куртка с серебристой молнией. Из-под нее, у ворота, выглядывает свежая белая рубашка и вишневого цвета галстук с крупным узлом. Волосы тщательно прилизаны. На щеках румянец, такой яркий, что хочется потрогать, не помада ли.
Энергично тряхнув мою руку, словно я была мужчина, Георгий Зосимович кивнул на стулья, рядочком вытянувшиеся вдоль грязноватой, давно не крашенной стенки, не пошел за свой стол, а сел рядом со мной. И произнес тягучим, как сироп, голосом:
— На-а-талья Алексеевна, я к вам за помощью.
Глаза у него хитрые. Двойные. Впереди будто бы простота да улыбка. Но сзади — дремучий лес: забредешь — не выберешься.
Он наклонился корпусом, положив подбородок на ладонь левой руки, локоть которой уперся в коленку. Смотрит на меня, обрадуюсь я или огорчусь его словам. Но я не радуюсь и не огорчаюсь. Смотрю на коричневую дверь равнодушие, терпеливо. Секрет прост: мне не хочется помогать Широкому. Однажды он вот так вызвал меня. Вот так: суетливо вышел из-за стола. Вот так попросил о помощи... А потом протянул лист плотной бумаги и сказал:
— Нарисуйте осла с папиросой. И напишите: «У нас не курят, один я курю».
Лист с ослом Георгий Зосимович прикнопил на стене в своем кабинете. И бедный осел долгое время был предметом шуток мастеров и прочих цеховых начальников, вхожих к Широкому.
— На-а-талья Алексеевна-а... — Георгий Зосимович откинулся на спинку стула энергично и даже резко, коснулся плечами стены; звук вышел, как шлепок, потому что стена была тонкая, внутренняя, и в нее можно было стучать, точно в барабан.
— Слушаю ва-ас, Георгий Зосимович, — тоже нараспев почему-то произнесла я, хотя была очень далека от мысли передразнивать Широкого. Он же заподозрил именно последнее. И брови его дернулись вверх, а глаза округлились, как у совы.
Мое же лицо выражало невинное любопытство (я думаю, что это было именно так). Потому, кашлянув, Георгий Зосимович сказал:
— Наталья Алексеевна, вы, можно сказать, выросли на моих глазах...
— Под вашим началом, — поправила я.
— Ну, это справедливо лишь относительно, — засмущался он. И глаза его утратили совиную округлость. Стали обычными, хитроватыми.
Я вспомнила Бурова и, подражая ему, ответила:
— Все в жизни относительно.
— Это верно, — почему-то вздохнул Широкий. Быть может, тоже вспомнил кого-то или что-то. Потом он вдруг рывком встал, вышел на середину кабинета, крутнулся на каблуках, заложив руки за спину, долго молчал.
Я не думаю, чтобы он столь сосредоточенно разглядывал осла, нарисованного мной по его просьбе, но смотрел он именно на рисунок. Я кашлянула, напомнив о себе.
— Так на чем я остановился? — вздрогнул Широкий, перевел взгляд на меня: — Ясно... Руководство цеха, партбюро, цехком вместе посоветовались и пришли к принципиальному убеждению, что Ивану Сидоровичу Доронину хлопотно совмещать свою основную работу с профсоюзной. Мы решили его выдвинуть на профсоюзной конференции в фабком. А в председатели цехкома предложить новую кандидатуру... Я понятно говорю?
— В общем да...
— А в частности мы говорили о вас, Наталья Алексеевна. О молодой коммунистке, энергичной, передовой производственнице... Вы понимаете?
— Не понимаю, — призналась я.
Широкий иронически закачал головой: дескать, зря скромничаете, товарищ Миронова, ведь все же ясно.
— Мы хотим предложить вашу кандидатуру на пост председателя цехкома.
— Не выберут, Георгий Зосимович, — совершенно искренне произнесла я.
Он посмотрел на меня озадаченно, опять произнес нараспев:
— Не выберу-ут, так и не выберу-ут... Посмотрим.
2Зимой, в лютый мороз, когда окна были расписаны узорами и сквозь стекла просачивался голубой свет, на отчетно-выборном собрании профсоюзной организации цеха меня избрали в цехком. Предложил мою кандидатуру Иван Сидорович Доронин. Перед этим, две минуты назад, он попросил самоотвод, вызвав тихое недоумение работниц. А потом сказал:
— Надо бы избрать в цехком Наташу Миронову как представителя молодой поросли. Миронова — работница дисциплинированная. Семья у нее здоровая. Учится на четвертом курсе института. Общественной работой ей по партийному уставу заниматься положено. Так что пусть не отказывается, — закончил он совсем грозно.
— А я и не отказываюсь, — ответила я немного испуганно.
И этот испуг мой был замечен в переполненном работницами красном уголке. И смех покатился из ряда в ряд, как ветер по полю.
В перерыве собрания, когда счетная комиссия, скрывшись в кабинете Широкого, выясняла результаты голосования, меня за плечи вдруг обняла Нина Корда — секретарь партбюро нашего цеха. Сказала тихо:
— Не волнуйся, все будет хорошо.
И тогда я догадалась, что она тоже знает о моем разговоре с Широким, что разговор наш не тайна. Да, собственно, Широкий сразу сказал: все согласовано с партийным бюро. У меня это просто как-то вылетело из головы. От неожиданности или от волнения.
— Я и не волнуюсь, — ответила я не очень приветливо, потому что всегда считала Корду высокомерной, гордячкой. И даже вычеркнула ее из списка членов бюро на проходившем недавно отчетно-выборном собрании.
Корда посмотрела мне в лицо неподвижными, словно из металла, глазами. Но не сняла руки с плеч. И я слышала ее ровное дыхание, только, быть может, более глубокое, чем то, которое можно назвать спокойным. Мне показалось, что я обидела женщину. Обидела незаслуженно. И я поправилась торопливо:
— А чего волноваться-пугаться? У тебя заботы потруднее.
— Пужаться нечего, — вместо Корды вдруг ответил Иван Сидорович.