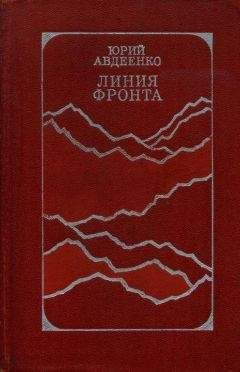Юрий Авдеенко - Дикий хмель
— А этот товарищ кто? — вкрадчиво спрашивает Буров.
— Мой друг, Леша.
Леша нескладно поднялся, выпрямился, стал длинным и тонким, как спица. Сказал:
— Здравствуйте, — протянул руку.
Но Буров не подал руки. Отступил на шаг, чтобы рассмотреть лучше, чуть присвистнул:
— Полагаю, что друг Леша баскетболист.
— И мой сокурсник.
— Сокурсников не выбирают, сокурсники проходят по конкурсу, — нравоучительно изрек Буров.
— Выбирают мужей и друзей, — пояснила я.
— Верная мысль! — живо откликнулся Буров. Ему уже трудно было скрывать раздражение. — Не подняться ли нам в комнату и что-нибудь выпить? В холодильнике есть коньяк.
— Мне нельзя, — сказал Леша. — Спортивный режим. За выпивку наказывают строго.
— За свидание с чужими женами — нет?
Леша не ответил. Возможно, он думал, нужно ли драться? А возможно, просто, не знал, что сказать.
— Иди домой, Леша, — решила я. — И больше не провожай меня. Мой муж ревнует.
— Глупости, — сказал Буров. — Каждый человек свободен и волен поступать по своей совести и разумению.
— Спокойной ночи, — сказал Леша и, ссутулясь, ушел.
Я продолжала сидеть на лавочке. Ночь была теплая, воздух легкий, и сидеть было хорошо. Буров закурил, потом сел рядом. Спросил:
— Ты влюблена в этого мальчика?
— Сумасшедший, — усмехнулась я.
— Тогда все в порядке, — сказал он нормальным голосом. — Только обниматься лучше не под соседскими окнами, а в подъездах.
— В подъездах пахнет кошками.
— Вот об этом я не подумал.
— Нервишки.
— Может, и нет... У нас найдется, чем поужинать?
— Если ты принес.
— Я ничего не принес.
— Тогда вот только плитка шоколада. Угостил Леша.
— Сойдет, — сказал Буров, срывая обертку. — Калории... Как успехи?
— Всегда со мной. Два экзамена скинула. На четверки.
— Норма... А я, между прочим, по делу.
— Думала, по сплетням.
— Нет. По делу. Завтра тебя будут принимать на парткоме.
— Опять экзамен.
— Какой экзамен! Там все свои.
— Когда чужие — лучше. Завтра купи мне, пожалуйста, все утренние газеты.
— Газеты нужно читать каждый день.
— Буров, почему ты всегда и все говоришь правильно?
— Потому что я не играю в баскетбол.
— Зря. У тебя были бы крепче руки.
8Анна Васильевна Луговая вручала мне партийный билет. Я вошла в кабинет, где на окне стояли горшки с гортензиями. Конечно, в кабинете висели и портреты и стояли шкафы с книгами, но я запомнила гортензии, видимо, потому, что меньше всего ожидала их здесь увидеть.
Цветы тянулись к солнцу: розовые, ярко-красные, бордовые и даже белые. Солнце просвечивало их, каково могло просвечивать воду или зеленый лес.
Из-за стола, широкого, словно тахта, поднялась женщина, каким-то решительным, мужским шагом подошла ко мне, протянула руку, басовито сказала:
— Здравствуйте, Наталья Алексеевна.
Она сжала мою ладонь энергично, будто проверяя ее на крепость. Мне вдруг стало смешно. Но я, конечно, не расхохоталась, однако созорничала и, как солдаты на параде, бодро и ритмично произнесла:
— Здравствуйте, товарищ Луговая!
Она искоса посмотрела на меня, чуть сдвинула свои широкие брови, черные-черные, ничего не ответила, так же решительно вернулась к столу, села на стул. Кивком указала мне на кресло.
Я вообще не могу угадывать возраст человека, но было ясно, что по возрасту Луговая могла быть моей матерью.
Чинно и аккуратно я опустилась в кресло, старательно натянув юбку. Но, увы, она не закрывала колени. Такая уж тогда была мода. Паркет блестел зеркалом. И я видела на нем свои ноги, длинные, белые. Чувствовала на себе испытующий взгляд Луговой. И мне было неловко, словно я сидела перед ней голая.
— Вы замужем? — спросила Луговая.
— Четвертый год.
— Не любите мужа? — уверенности в ее голосе было больше, чем вопроса.
Растерянность не овладела мной. Нет, я конечно бы растерялась, если бы не злость.
Я откинулась на спинку кресла, перекинула ногу на ногу, юбка укоротилась еще больше, но мне теперь было все равно.
— Это не праздный вопрос, — сказала Луговая, она угадала мое состояние, старалась говорить мягко, тихо. — Вы до сих пор носите свою девичью фамилию — Миронова. Партийные документы выписаны на эту фамилию.
— Я поняла вас, — спокойствие было уже рядом. Его, можно было потрогать рукой. Мне хотелось говорить тихо и мягко, как Луговая. — Это фамилия моего отца. Он никогда не видел меня. Я никогда не видела его. Мой отец погиб в последние дни войны. Я хочу носить его фамилию всегда. И хочу передать ее своим детям.
В глазах Луговой — они очень выразительные — появилось сочувствие и понимание.
— Вы что-нибудь знаете о своем отце?
— Очень немного. Не сохранилось даже фотографии. Мама говорила — он был веселый человек. Мой муж через архив Министерства обороны выясняет, где и как погиб отец. Есть сведения, что он был армейским разведчиком, полным кавалером ордена Славы.
— Всех трех степеней?
— Да.
— Это все равно что Герой Советского Союза.
— Не знаю.
— Я знаю, — уверенно произнесла Луговая. И спросила: — Откуда он родом?
— Из города Азова.
— Вот как? — удивленно покачала головой Луговая. — Работала в Азове после войны. В горкоме комсомола. Сама-то я ростовская...
Я молчала.
— Мама тоже из Азова?
— Нет. Они познакомились в Москве. Мама никогда не была в Азове.
— Надо съездить на родину отца.
— Хотелось бы. Давно уговариваю мужа...
— Кстати, кто ваш муж? Напомните.
— Буров. У нас на фабрике — редактор многотиражки.
— Знаю, знаю... — быстро, словно размышляя вслух, проговорила Луговая. — Такой... с толстыми очками... Плохо работает, плохо... Многотиражка одна из самых серых в районе.
— Ему трудно, — пояснила я. — Все делает один. И за директора пишет, и за мастера пишет. И даже за покаявшегося алкоголика и прогульщика тоже пишет он.
Засмеялась Луговая:
— Вот и ответ на мой первый вопрос. Любите вы своего мужа. Потому защищаете.
— Защищаю не из-за любви. А просто — это все правда. А люблю ли? Сама не знаю. День люблю, день ненавижу...
— Все, все, Наталья Алексеевна, — улыбнулась Луговая, — это и есть классическая формула любви.
Потом она поднялась. И я встала из кресла. Красная книжечка в ее руке была такой же яркой, как гортензии на подоконнике. Луговая передала ее мне. И поцеловала по-матерински.
9— Тобой недовольны в райкоме, — сказала я Бурову, прикрыв дверь.
Солнце светило в распахнутые окна И сладковатый запах цветов и зелени, густо росших внизу под окнами, вмещался в комнату, как земляника в лукошко, — нежно, медленно, ароматно. Мама часто ездила в лес за земляникой, за грибами. Брала меня с собой всегда, когда я была маленькой: оставлять дома было не с кем. Мы уезжали ранней электричкой, на самой зорьке. И попутчики наши тоже были с плетеными корзинами-лукошками, одеты в старые мятые одежды. Я любила садиться у окошка, глядеть сквозь стекло на простор, то лениво разворачивающийся долгим, блестящим от росы полем, то вдруг врезавшийся в память сонными, загадочными домишками.
Выходили на какой-нибудь тихой платформе. Шли по тропинке, где рос бурьян. Земля под ногами была ласковая. Воздух свежий. Запахи незнакомые. Где-то за кустами мычали коровы, где-то далеко кукарекали петухи, а навстречу обязательно попадалась телега, запряженная покорной, равнодушной ко всему лошадью.
Ни в какие другие дни я не видела таких счастливых глаз у мамы. Мне надо было бы сказать: зачем жить в больших городах, где всегда пахнет пылью и бензином, где не голосят петухи, а дребезжат трамваи, где травы подстрижены под ежик, словно обыкновенные волосы.
— Мама, я не люблю асфальт, — говорила я. — Простая земля лучше. На асфальте грибы не растут...
— Верно, доченька, верно... — понимала и не понимала меня мать...
Зато Буров понимает все хорошо. Закрывает книгу. Кладет на стол.
— Мной всегда кто-нибудь недоволен. И тем не менее... Dum spiro, spero[2].
— Опять латынь. Ты специально учил ее, чтобы потрясать воображение своей жены?
— Потрясти твое воображение можно и более простыми вещами, — говорит он высокомерно. Такое у него бывает. Проскальзывает.
— Хочешь сказать, что я дура? — стараясь быть предельно спокойной, спрашиваю. Сердце колотится, словно я бежала за трамваем.
— Этот вульгаризм не из моего лексикона.
— Я глупая? — глаза, конечно, выдают меня.
— Нет. Ты хороший, но очень молодой человек, — он понимает мое состояние. Наверное, понимает.
— Это недостаток?
Буров смотрит испытывающе, скрестив руки на груди. По благодушному выражению его лица ясно, что сегодняшняя пикировка со мной доставляет ему удовольствие.