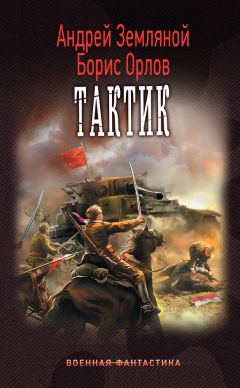Борис Галин - В одном населенном пункте
— Кони есть?
«Девятая» обходилась без коней. Трехтонный «санфор-дей» наполнялся углем в полторы минуты. Спустился паренек в шахту, поглядел, как врубовка уголек подрубает, как мощный электровоз тянет за собой вагоны.
— Подходяще, — сказал паренек с пастушеским бичом. — Ставь на машину.
Мы уже немало видали таких «орлов» в лаптях. Покрутится «орел» на шахте, урвет деньгу и, не задерживаясь, летит дальше. Но этот не полетел. Задержался. И стал машинистом врубовки. Искусным, толковым. Других за собой повел.
Летом он познакомился с девушкой. И девушка увлеклась им. Думается мне, что он рисовался ей человеком с широкой натурой — умным, содержательным, всегда идущим вперед. Может быть, ее ослепила слава, которая окружала его имя.
Именно в те дни в газетах снова прогремело его имя: он ставил рекорды. Пятнадцать тысяч тонн на врубовку! Двадцать тысяч тонн на врубовку!
И парень старался — рекорд за рекордом! Девушка приехала в наш поселок.
Он не был эгоистом или себялюбцем и щедро делился секретами своей профессии. Его помощники становились машинистами. Они незаметно обгоняли своего учителя: обучались грамоте, добивались права ответственности на ведение горных работ. И его послали учиться в Рутченковку. Ему создали все возможности, чтобы стать грамотным, культурным человеком. Но парень не приложил никаких усилий в учебе. Он думал, что его будут кормить знаниями, как кормят детей манной кашкой. Но оказалось, что знаниями нужно овладевать! Садись за парту, учись, запоминай… И человек, который мастерски подрубал уголек, вдруг струсил. А, Б, В… Да ну их к чёрту! И так проживем.
Он избрал для себя более легкий путь в жизни. Его товарищи — машинисты, забойщики, крепильщики — учатся, а он представительствует. Заседает в президиумах. Приобрел этакий внешний лоск, точно всю свою жизнь ораторствовал. Фигура!.. Любит делиться опытом работы. А опыт у него действительно хороший. Ему есть что рассказать о своем вчерашнем дне. И вот тут все резче и резче намечается в его жизни разрыв, который он сам же создал. Да, он имел заслуженную славу. Но ведь это слава вчерашнего дня! Ну, а что ты даешь сегодня стране, чем ты сегодня ей полезен? И если он сам не ставил перед собою этих вопросов, то жизнь вплотную подвела его к ним. Хочешь — не хочешь, а нужно задуматься.
Он вернулся к нам на шахту. Мы думали: человек накопил знания. Выдвинули его на работу начальником крупной лавы. Пожалуйста, разворачивайся, покажи себя. Он не нашел в себе силы и мужества сказать, что не подготовлен к такой большой и ответственной работе. Да и мы хороши: авансом поверили человеку, не зная толком, на что он способен. И он в очень короткие сроки искривил лаву, сломал систему цикличности выработки. А тут подоспел приказ наркомата: добиться, чтобы руководящие работники имели право ответственности на ведение горных работ. Сдать экзамен на право ответственности не так уж трудно. А он пришел и говорит:
— Не буду сдавать на право ответственности, — переводите помощником начальника лавы.
Но он и в помощники мало подходит. Знаний горного дела у человека нет. Ругается, кипятится, но руганью ведь добычи не дашь! И он сам это понимает.
Зашел я как-то в нарядную его лавы. Вижу — стоит наш «орел» и переругивается с бригадирами, толком не умеет объяснить им, что надо сделать в лаве. Подождал я, когда рабочие ушли, и позвал его к себе. И напрямик сказал ему все, что я о нем думаю, и о том, куда он катится и до чего рискует доиграться. Стоял он передо мной злой, угрюмый. На груди погасшая аккумуляторка. Молчал. Потом вдруг заговорил:
— Что? На испуг хотите меня взять? Пригрозить хотите судом?
— Что ж, — говорю ему, — доиграешься, допляшешься и сполна получишь свое. Закон не остановится перед тем, что ты человек именитый. Отвечать будешь по закону. Теперь время суровое, скидок никому не делают. Но только позор твой и на нашу голову падет. Мы тебя породили, и нам за тебя отвечать.
Он только усмехнулся и говорит:
— Я и сам за себя постою и отвечу. Сам взобрался на гору, сам и полечу с нее вниз.
— Ну, для этого много ума не требуется — лететь вниз. Нехитрая штука.
И напоминаю ему недавнее прошлое.
— А помнишь, ты пришел к нам в лаптях. Был ты коногоном, и коня твоего звали Валетом. А у нас ты обучился машинному делу. Кто тебе имя создал? Ты хорошо работал. Честно, с азартом. И тебе помогли, дали возможность проявить себя. А помнишь, как мы отметили тот день, когда ты доказал, что врубовка может быстрее рубать… По тебе стали другие равняться. О тебе заговорили в районе, во всем Донбассе. Учиться тебя послали. А ты чем отплатил? Возомнил о себе, голова у тебя закружилась: мне, мол, все нипочем. Эх, орел!..
Молчит наш парень, но я чую: он все понимает. Подходим мы с ним к окну, смотрим на шахтный двор. Ночь темная, небо в облаках. А вверху над зданием шахты горит звезда. С далеких холмов, окружающих город, виден свет звезды. И шахтеры знают: зажгли звезду, значит дела у них хорошие.
Я молчу и жду, что же он скажет, какое решение для себя нашел. Он заговорил тихо, глухо:
— Илларион Федорович, когда-то я ставил опыты на врубовке по скоростной зарубке. Кое-что я доказал. Но остановился на полдороге. Есть у меня мысль: переменить шестеренки, добиться скоростной зарубки. Съезжу в Горловку на завод, договорюсь с конструкторами, мысли свои проверю…
— Это хорошо. А дальше что?
Он повеселел душой и продолжает:
— Какой я к чёрту начальник лавы!.. Пойду обратно на машину. Покажу класс работы. И если что выйдет со скоростной зарубкой, а выйдет наверняка, то так громыхну, на весь Донбасс громыхну…
— А ты не громыхай, — говорю я ему резко. — Ты вот сам додумался пойти в лаву машинистом. Так ее погань свое звание. Работай, а не громыхай!
Некоторое время мы шли молча.
— Работай, а не громыхай, — сердито повторил Илларион Федорович. — Этого шахтера я позже встречал в годы войны в Кизеле. Хорошо работал.
Иллариона Федоровича одолевала одышка. Он шагал медленно, часто останавливался.
— Легостаев, должен вам сказать, с хорошими задатками, — вдруг произнес Илларион Федорович. — Вы слышали, как он говорил о врубовой машине… Он понял самое главное: на врубовке, на этом простом и мощном механизме, стягиваются в один узел все звенья работы лавы, шахты, треста. Но врубовка сама по себе еще не делает всей погоды на шахте. Чем хорош Легостаев? Он видит не только свою работу, но и те промежуточные звенья, от которых зависит успех всей шахты в целом. Он называл нам слагаемые своей работы, но я думаю, что все эти слагаемые можно охватить одним словом — любовь. Любовь к шахтерскому труду. Он любит «Девятую» шахту… И я люблю ее, — продолжал он. — Летом на отдыхе «отходишь» от мыслей о шахте. На время все как будто забывается: добыча, рапорты, споры и разносы, ночные тревожные звонки… Но так только кажется. Пройдет неделя, другая, и ты уже сыт по горло розовыми закатами, глухим шумом моря и чистеньким безмятежным небом… Однажды на Кавказе я проснулся по привычке на рассвете, встал, распахнул окно, взглянул на небо и вдруг вспомнилось — изрытая степь, ветер на склонах террикона и горящая звезда над шахтой…
Илларион Федорович вдруг остановился и с сердцем сказал:
— До чего же он довел шахту!
Я не сразу понял — о ком это он?
— По сводкам у Пятунина все правильно: он дает добычу. А как он ее дает, эту добычу? Три недели работает враскачку, вяло, а к концу месяца — дни повышенной добычи. Как вы думаете, хорошо мне было слушать на областном активе, что я управляющий-коротышка? И если есть в этих словах правда, а она есть, — яростным шепотом говорил он, — то все потому, что мы медленно поворачиваемся к новым задачам. Этот ДПД вот где сидит у меня! — Илларион Федорович с сердцем хлопнул себя по шее. — Сживаешься с человеком, прощаешь ему многое, и постепенно перестаешь замечать, как он отстает и как, отставая, он тянет и тебя назад, тебя и весь твой трест…
Панченко круто повернулся и, простившись со мной, сказал, что пойдет к Пятунину, на шахту.
Панченко молчал, когда в кабинете Пятунина Легостаев беседовал с врубовыми машинистами. Он молчал и в лаве, когда Легостаев показывал врубовым машинистам, как надо работать. И это было молчание человека, который о чем-то задумался. И все то время, пока мы ночью шли по залитой лунным светом дороге, он говорил о Легостаеве и думал о себе и о Пятунине — как сломать пятунинский стиль.
— Я его породил, — сказал он хмуро, — я его и убью.
Был второй час ночи, когда я подошел к райкому. У Василия Степановича Егорова горел свет. Еще более я удивился, когда Василий Степанович вошел в парткабинет. Он, оказывается, дожидался меня.
— Ну что? — набросился он на меня. — Рассказывайте, как прошла лекция Легостаева. Как Панченко?
Ему хотелось все знать: что говорил Легостаев и что говорили врубмашинисты пятунинской шахты, даже что переживал Легостаев, когда подписывал договор на соревнование… Что говорил Панченко. Я подробно рассказал ему все, что видел и слышал. Слова Легостаева особенно понравились ему. И он задумчиво повторил их: «Друзи, перемога не приде сама».