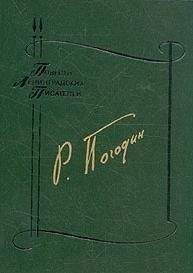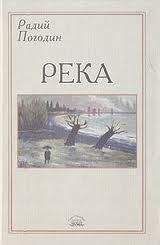Радий Погодин - Я догоню вас на небесах (сборник)
Комната была большая, пустая, светлая. Было в ней весело и немного страшно: разбежишься, а впереди стены нет — окно.
Потом всю эту квартиру с широкими коридорами, большими комнатами отдали какому-то учреждению, а отец с Колей переселились тоже в большую комнату, тоже с большими окнами, но уже не такими большими, на угол Восстания и Невского, в доме с булочной, прямо напротив Знаменской церкви, главным достоинством которой, по моему тогдашнему разумению, являлась прямо-таки крепостная взрывостойкость. Когда ее самоуверенно взрывали, чтобы устроить на ее месте скверик, то, как мне помнится, обвалилась она лишь с третьего раза. Тогда на всех окнах домов, окружавших площадь Восстания, были наклеены косые кресты, такие же, как в блокаду.
Я любил приезжать к Коле. Отец появлялся поздно или не появлялся вовсе, и мы с братом ходили в столовую, гуляли по Невскому, а то шли на Фонтанку в Шереметьевский дворец — Дом занимательной науки и техники, — где Коля все знал и был чемпионом по держанию тока. Нужно было делать так: один крутит ручку динамо-машины, другой держит в руках провода, заканчивающиеся двумя медными трубками. Никто не держал полный ток, кроме мужественных взрослых и Коли. Сейчас в Ленинграде такого дома нет, зато в Соединенных Штатах Америки такие дома чуть ли не в каждом солидном городе. Говоришь им, что у нас такой дом был. Отвечают: «Да, да. У вас был, а у нас есть».
В парке Госнардома, куда мы ездили кататься на «американских горах» и других выматывающих каруселях, Коля дольше всех держался на «чертовом колесе», балансируя на четвереньках в самом центре. Когда безжалостный машинист давал все же полные обороты, Колю медленно стягивало с центра и швыряло в обитый войлоком борт.
— Ну неодолимая эта сила, — говорил машинист брату. — На ней вселенная держится. Думаешь, я тебя пожалею, позволю тебе насмехаться над этой силой? Почему ты такой упрямый?
— Не знаю, — отвечал брат.
— А дух вышибет?
На «чертово колесо» Колю перестали пускать. Он научил меня держаться, и теперь меня сбрасывало с колеса последним. От ударов у меня сильно болела грудь. Перестали пускать и меня.
Однажды, придя к брату, я увидел в кухне развороченную плиту, ею пользовались, когда пекли пироги или готовили праздничные обеды: студни, заливное, жареного гуся, индейку…
В квартиру нужно было проходить через кухню. Соседи ухмылялись, но не зловредно, — соседи Колю любили.
— Взорвался твой братец, — сообщили они. — Древние говаривали — и не однажды: когда мальчик начинает выдумывать порох, следует отойти от него подальше. Хорошо, что глаза целы.
Я бросился в отцову комнату. Веселый Коля сидел в постели. Голова его была забинтована — только глаза смотрели из кочна широких бинтов. Руки были забинтованы, каждый палец отдельно. Губы черные, чем-то смазаны желтым.
— Я живой, — успокоил он меня.
А в городе шел фильм «Человек-невидимка».
— Тебе только черные очки теперь, — сказал я. — Порох делал?
— Это наши замечательные соседи болтают о порохе. Отсталые люди. Взрывчатка — в основе целлулоид. Не рассчитал массу. — Коля старался не шевелить губами. Они у него трескались. По зубам текла кровь.
— Чем тебя кормить?
— На столе. Под салфеткой.
Я снял салфетку. Были яблоки, груши, сливы и дыня, пирожное и манный пудинг с вишневым вареньем.
— Соседи, — объяснил Коля. — Жалеют.
Матери я не сказал про Колин ожог. Сказал, что он просто болен. К счастью, следов ожога на лице у него не осталось. Когда он ходил на перевязки в поликлинику, прохожие смеялись над ним: мол, ненормальный — под человека-невидимку вырядился.
Этот случай, я думаю, все же подтолкнул отца к решению жениться в третий раз.
И пришла тетя Валя.
Перед ее приходом отец сказал:
— Сегодня я буду с дамой. Приглядитесь: может быть, я женюсь.
Мы встретились с ними на улице. Было очень тепло. Она была в крепдешиновом красном платье в мелкий черный и белый цветочек. Она показалась нам красавицей, феей. Отец сказал ей:
— Это мои…
Мы стояли как дураки и молчали.
— Валя, — сказала она.
Отец поправил ее:
— Тетя Валя.
Она засмеялась так весело и так сердечно, что и мы, не зная, почем это веселье, засмеялись тоже.
— Если я теперь вам тетя Валя, то, надо думать, ваш отец сделал мне предложение таким вот образом.
— Ну да, — сказали мы. — Соглашайтесь.
— Идите-идите, — сказал отец. — Не вашего ума дело.
Мы пошли, но все оглядывались, не понимая, почему она, такая красивая и такая хорошая, соглашается выйти замуж за нашего незадачливого отца, двойного разведенца, а где третья жена, там и четвертая.
Четвертой женой мой непутевый отец обзавелся, но тогда уже не было тети Вали.
Я с трудом поднимался по лестнице — этажи в доме были высокие.
Открыла дверь тетя Валя. Перед началом войны она была грузновата, но сохранила все же некую эллинскую позитурность, хотя у нее было уже двое ребят: четырехлетний сын и годовалая девочка. Сейчас же передо мной стояла совсем пожилая женщина. У довоенной тети Вали лицо было круглым и блестящие волосы. У тети Вали блокадной лицо было продолговатым и волосы тусклые, с проседью. Довоенная тетя Валя встречала меня радушно, весело. Блокадная впустила меня на кухню нерешительно, даже с испугом.
Я сразу же понял почему. Она жарила на керосинке манные оладьи для ребят — по детским карточкам еще что-то давали.
Чтобы унять ее страх, я сказал:
— Тетя Валя, не беспокойтесь, я на «Севкабеле», на котловом довольствии. Мы танки ремонтируем, нас кормят. А на эти манные котлеты мне даже смотреть смешно.
— Олашки, — поправила она меня.
— Слово какое-то невоенное. Как ребята?
— Они болеют, — сказала она. — Сейчас спят.
— Можно, я пойду посмотрю? Такое время — бомбы падают. Я проститься пришел. Вчера наш завод бомбили и позавчера…
— Зачем же проститься? — прошептала она с тоской. По щекам ее, по светлым руслицам — сажа от коптилки уже не отмывалась — текли слезы. Она собирала их пальцами.
— Тетя Валя, если каждый день бомбят, — сказал я. — У нас работа такая. Потому и кормят. — От меня пахло бензином, керосином, железом.
Она вытерла слезы вафельным полотенцем. Спросила:
— А как Коля? Пишет?
И я сказал ей, что на Колю еще в августе пришла похоронка. Она заплакала сильнее и отвернулась к закопченной кухонной стене.
Я прошел в комнату. Ребята спали на одной кровати. Маленькая сестричка была сурова во сне, кулаки ее были сжаты. У четырехлетнего братца были подняты брови, он чему-то удивлялся. Он был радостным мальчиком, он во всем видел радость — в пауке, в поливальной машине. Глаза его были такими большими и сверкающе чистыми, что казалось, будто он не смотрит на мир, но освещает его. И ладошки его были всегда открыты, чтобы поделиться.
Я бы тоже заплакал, если бы умел это делать. Я понял сердцем, а может быть, поддыхалом, что с ним я прощаюсь. Его звали Сережа.
Когда у тети Вали родился сын Сережка, Коля еще вписывался в их семью, даже придавал ей некую динамику. У женщин, не предназначенных для профсоюзных дебатов, но предназначенных для материнства, любовь, безусловно, избыточна, и ее хватает на многих детей. У тети Вали любви было много, но какой-то главной — для двоих. Она любила нас, когда нас было двое, она любила Сережу и Колю, когда их было двое. Я, поняв себя гостем, гостем себя и вел. Когда же родилась у тети Вали дочка, ее любовь целиком излилась на ее маленьких ребятишек. Это совсем не значит, что она стала хуже относиться к Коле, просто любовь ее стала другой. Она так и сказала моей матери. Она часто к ней приходила. Она пришла перед тем, как выйти за отца замуж. Кстати, отец ей и адрес наш дал. Мать ей тогда сказала:
— Смотри, Валентина, он подлец. Рассчитывай на себя. Он подлец мелкий, даже не вредный. Но если ты хочешь для сердца — найди себе широкоплечего.
— Широкоплечий был, — сказала тогда тетя Валя. — Погиб при пожаре.
Тетя Валя приехала в Ленинград из Нижнего Новгорода, была у нее коса толстая, гребенка черепаховая и коробка стекляруса.
Придя к матери перед Колиным к нам переселением, тетя Валя созналась:
— Я люблю Колю, но уже как вашего сына.
— А раньше как любила? — спросила моя мать.
— Как своего.
— Добрая ты баба, Валентина, — сказала мать и поцеловала ее в темя. — А Коля как?
— Он почувствовал… Я чувствую, что почувствовал…
— Ну и ладно, — сказала мать. — Да и пора ему ко мне возвращаться.
И Коля пришел, наглаженный, отутюженный, высокий, стройный, с плащом через руку.
Ребята спали в неведении своей судьбы. Я смотрел на них, и тетя Валя неслышно дышала мне в ухо, так неслышно, что я повернулся к ней — дышит ли? Глаза ее, и без того большие, темные, были огромными. Они уже смотрели с неба.