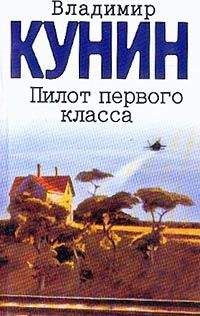Римма Коваленко - Конвейер
Нам с Дарьей в этом парке делать было нечего, но мы однажды собрались и пошли. Дарья надела новое платье. У меня даже сердце упало оттого, что может быть на свете такое платье — синее, заграничное, с узенькими кружавчиками. Кружева в три ряда воротничком и рядов по десять на рукавах, длинным таким пенящимся манжетом. Пришлось мне надеть материн вишневый костюм, единственную драгоценную вещь, можно сказать, семейную реликвию. Когда я пришла с выпускного вечера с трубочкой аттестата в руках, мать, проснувшись, сказала, видно, давно заготовленную фразу: «В честь окончания школы дарю тебе костюм». Какой костюм, гадать не приходилось: он был единственным, мать купила его до войны, свозила в эвакуацию и привезла оттуда новеньким. Подарок так и лежал в чемодане под кроватью — «дарю» это еще «не носи». Я в этом разбиралась. Но тут вытащила чемодан, выгладила шелковый вишневый костюм с черной вышивкой на груди, замазала чернилами белые ссадины на каблуках туфель, и мы с Дарьей, нарядные, розовые от собственной неотразимости, двинулись сначала к сараю, потом по узкой тропке к дыре в парковой ограде.
Первое и единственное чувство, которое охватило меня в парке, был стыд. На нас смотрели. Наверное, мы были не только сверх всякой меры нарядные, но и по-смешному разные. Дарья уже мать, рабочий человек, с твердым шагом, и я в болтающемся, как на вешалке, костюме с птичьей походкой послевоенной десятиклассницы. Мы стояли в толпе, окружающей танцплощадку, — нас никто не приглашал. Мы выдвинулись в первый ряд — к Дарье подошел некрасивый длинный курсант. Я не глядела на них; в один миг убедила себя, что пришла сюда ради Дарьи. Пусть потанцует, какие у нее еще в жизни радости. Надо только пораньше отсюда уйти, положить костюм в чемодан до прихода матери. И вдруг:
— Вы танцуете?
Я не увидела его лица.
— Очень плохо танцую. Сразу предупреждаю.
Мы вошли в тесный от танцующих пар круг. В четвертом классе под патефон моя подруга Женя Никитина научила меня танцевать вальс. Потом в войну в нашей женской школе я «водила» на школьных вечерах своих подруг в фокстротах и танго. Парень, с которым я впервые танцевала, который «водил» меня, был летчиком-лейтенантом, голубоглазым, с ямкой в подбородке. Танец назывался «вальс-бостон». Я познакомила летчика с Дарьей, она меня — со своим некрасивым курсантом. Вчетвером мы отчалили с площадки, пошли гулять по парку. Дарья шепнула мне: «Не проговорись, что я фронтовичка». Это удивило. Летчик был сам фронтовиком, с орденом Отечественной войны. Наверное, Дарья что-то перепутала, правильней было бы опасаться намека, что у нее ребенок.
Курсант уныло вышагивал рядом с Дарьей, летчик беспрерывно говорил. Когда я пробовала вставить слово, он был недоволен: «Сами знаем, что сахар белый». У него еще была одна любимая присказка: «Расти большой, не будь лапшой». Он адресовал ее курсанту и сам хохотал, захлебываясь, так ему было смешно, что длинному курсанту надо еще расти. Вскоре летчик выговорился, потерял к нам интерес и вернулся на танцевальную площадку. А курсант заговорил.
— Далеко живем? — спросил он у Дарьи.
— Отсюда не видать, — ответила та.
— С мамашей или одна?
— Одна.
— Тогда пошли, — сказал курсант и стал смотреть на меня. Я стала третьей лишней.
— Куда это пошли? — спросила Дарья.
— К тебе, — курсант был человеком дела, не чета лейтенанту со своим «сахаром» и «лапшой».
— А что ты у меня забыл?
Курсант потупился, всем видом своим показал, что этот Дарьин вопрос смутил его. Но преодолел себя, обратился ко мне:
— Можно вас на минуточку?
Когда мы отошли, он сказал:
— Мы можем вас вдвоем проводить до дома. Вы меня понимаете?
Я все понимала. Пышная Дарья в своем заграничном платье понравилась курсанту, и он захотел к ней туда, где она жила одна.
— Провожайте, — ответила я.
Провожать меня было некуда, мы стояли недалеко от дыры в ограде, но Дарья сама затеяла эту игру, сказала зачем-то, что живет одна.
Когда мы подошли к Дарье, курсант взял ее под руку. Дарья замерла.
— Э! Убери руку.
Курсант послушался.
— Увольнение у тебя до утра? — спросила Дарья.
— До двенадцати.
Я глядела на Дарью, это была не она, а другая, наглая и бесстыжая женщина.
— До двенадцати! Да я к утру только раскочегариваюсь.
Курсант хихикнул.
— Ну, а шнапс у тебя есть?
Курсант развел руки в стороны.
— А по морде когда-нибудь получал? — Дарья развернулась и своей лапой собралась дать ему по голове. Курсант отскочил.
Дарья по-деревенски, с криком пошла на него:
— Ах ты кобелиное отродье! К бабе захотел! На дурничку! Чтоб она тебя поила, спать с собой положила минут на тридцать. Морду б тебе сбить в кровь за такое…
— Ну ты, ну ты… — курсант попятился.
Дарья схватила его за рукав.
— Патрулю сдам, к такой-то матери. Тут каждых полчаса патрули.
Курсант перепугался, тряхнул головой и побежал по дорожке. Дарья не сразу остыла, стояла, выкрикивая ругательства, потом увидела меня и стихла. Я думала, она заплачет, но она махнула рукой, словно что-то от себя отогнала, и тут же пошла к скамейке, с размаху села, влепилась в краску. Я даже ойкнуть не успела, схватила ее за руки, вытянула, но спина и подол сзади уже были в голубых разводах.
Через два дома от нас жил шофер дядя Толя, у него наверняка был бензин, я уговаривала Дарью пойти к нему, спасти платье, но она не пошла.
— Человек спит уже. Как у тебя все просто: пошел, разбудил, дайте что мне надо.
Больше мы в парк не ходили. Дарья пошла на курсы учиться на мотористку катка, который укатывает асфальт, я поехала в Москву поступать в университет.
Время развело нас. На каникулы я не каждое лето приезжала домой. То практика, то работала вожатой в лагере. Когда приезжала, не всякий раз виделась с Дарьей. Адрес у нее поменялся, она получила квартиру. Мать не могла простить ей этого.
— Две комнаты, вода горячая. Нет чтобы сказать: бери, теточка, себе одну комнату. Все забыла: что я ей вызов послала, из деревенской грязи вытащила.
Мне тоже было обидно за мать.
— За что же на двоих две комнаты?
— В бригадиры вылезла, что-то там перевыполняет. А может, еще дитенка нагуляла, у нее ж не узнаешь.
Увиделись мы с Дарьей в начале пятидесятого года. Я приехала сразу после сессии, а дома за столом, за бутылкой вина — мать и Дарья. Приняли Дарью в тот день в кандидаты партии, и они вдвоем отмечали это событие. А тут и я.
Ни о чем толком мы в тот вечер не поговорили. Дарья глядела на меня хмельными счастливыми глазами, обнимала своими тяжелыми ручищами, целовала то в одну, то в другую щеку.
— Ой, сестрица моя младшенькая, жила бы ты поближей, я бы тебе и того и сего подкинула бы.
Полезла в сумочку, достала две сторублевки, сунула мне в карман.
— Я бы тебе каждый месяц посылала, если б не матка твоя упертая.
— Деревня, — качала головой мать, — вот так напьются и последнее с себя раздают.
Утром мать вздыхала. На собрании, когда Дарью принимали в партию, та не сказала, что Марея была единоличницей, раскулаченной. Конечно, она жизнью искупила, но все-таки… Просила меня:
— Скажи ей, пусть хоть задним числом признается, а то в такую беду влезет — не вылезет.
Я училась на втором курсе, все знала, все понимала. Вместо того чтобы успокоить мать, пыталась ей научно объяснить то, что произошло с Мареей:
— Перегиб был. Головокружение от успехов. Марея на хуторе жила, мужа похоронила, нельзя было от нее в ту минуту правильного решения ждать.
Мать твердила свое:
— Ты скажи ей, пусть сходит, признается…
Я сказала об этом Дарье. Она сразу вспыхнула, но ничего не ответила, замкнулась. Мы ходили по тротуару возле детского сада, ждали, когда там отобедают, чтобы забрать пораньше Володю. Дарья вдруг остановилась, повернулась ко мне:
— Передай теточке, не ее ума это дело.
И ушла, забыв про меня и про Володю. Не пошла, а ушла, я это сразу почувствовала, ушла насовсем.
Мать мирилась с ней года три. Были короткие замирения, ходили друг к другу в гости на праздники, в деревню даже вместе в отпуск съездили, но так до конца и не помирились.
Мать никогда ничего не сообщала в письмах о ней. Только однажды, когда я уже работала младшим научным сотрудником областного архива, прочитала я в ее письме такие строки: «Никому не завидуй. Обращай главное внимание на работу, а то обгонит тебя, посмеется над тобой Дарья».
Встретились мы с Дарьей через двадцать лет после разлуки. Я уже свыклась с новостью, что Дарья — та самая наша Дарья — директор ювелирторга. Объяснила себе, что жизнь шла, вполне могла Дарья закончить финансовый институт. От матери на этот счет не было никаких сведений, ее волновало в Дарьиной жизни другое: «Все такая же гонорливая, забыла, кто ей вызов прислал. Шубу купила каракулевую, нет чтобы на обзаведение молодым эти деньги отдать». Я догадывалась, что Володя женился.