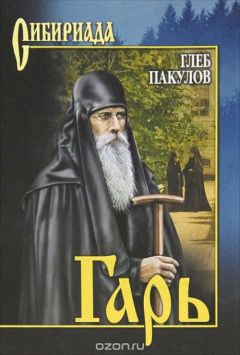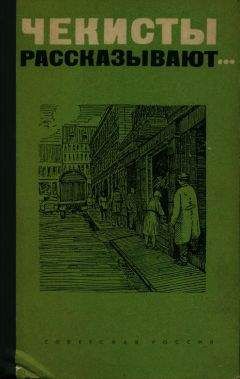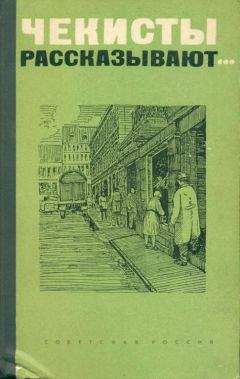Глеб Пакулов - Глубинка
— Ну-у, здорово живешь! — всплыл гневный голос Осипа Ивановича. — «Скрозь больной, пушшай женится»!.. Это каких же внуков он тебе наворочает?!
Алексей, о котором помянула Матрена, был ее первенцем. Котька хорошо помнил крепыша парня со значками на кургузом пиджачке, в кепке-восьмиклинке, веселого и озорного. Алеша всегда что-нибудь мастерил, а однажды привел в восторг мальчишек поселка, запустив в небо самодельный планер. Поблескивая слюдистыми крылышками, самолетик спиралью поднялся в небо, затем косо пошел вниз и упал в протоку. Его вылавливали всей опечаленной оравой, достали, но погиб чудо-планер: отклеилась тонюсенькая слюда с крыльев, распался каркас из бамбуковых лучинок. Горевало ребятье, а тем временем Алеша установил на крыше сарая ветряк, протянул провода, напаял лампочек от карманного фонаря и этой диковиной осветил свою мастерскую на чердаке. И мальчишки опять были заняты новой забавой. Он им картины показывал через трубку с линзами. Получалось, как в настоящем кино: кони скачут, люди бегают, рты разевают, только немые получались. Но вскоре Алеша поступил на геологический факультет, и ему стало не до мальчишек.
Увезли его из поселка глухой весенней ночью вместе с отцом Пахомом Скоровым. Пахом работал грузчиком на бревнотаске и, как говорили, проворовался. Когда к дому подъехала машина-пикап с глухой коробкой-кузовом, Алеша проснулся, понял, зачем пожаловал к ним этот кузовок. И спрыгнул с чердака, загородил милиционерам вход в избу. Его оттолкнули. Алеша поскользнулся на мокром от росы крылечке, слетел во двор. А парень был крепкий, изучал по самоучителю английский бокс. Ему бы отлежаться на земле, не вставать на пути хмурых, невыспавшихся людей, раз такой здоровый, да еще обученный заграничной драке, так нет — вскочил, тюкнул одного, другого… Алексей с отцом, по слухам, попали на строящуюся железную дорогу, трудились по одной специальности, но сами об этом все еще не сообщили. Далеко, знать, та дорога, что письма до сих пор дойти не могут.
Тише слышится из комнаты голос Матрены. Уже не кричит она, а вроде бы сама с собой рассуждает:
— …и бумага, поглядеть на нее, вся как есть одинакая, а поди ты, язви ее, разные действия оказыват. Большо-о-ое это дело — уметь писать да знать, че и куда. Вот и надеюся я, вдруг поможет моему Лексею писанина Ларивонова, вдруг амнистия выйдет.
Что-то отвечал отец, даже голос матери едва доносился. И снова проникающий говорок Матрены:
— Отказывать Ларивону я не могу, а прыть попридержу, ладно уж. Но и вам ставлю мои культиматы: приедет ваш Сергей скоренько, пушшай сами решают с Катюхой, каво имя делать. А не приедет, задержится — отдам за Ларивона… Давай-ка, Катьча, пошли домой. Ларивон в город уехал, не дождался. И пошто срамишь парня, дураком обзываешь? Ты половчее обходись, надежду подавай. Ну, прощевайте, суседи, забегайте, а меня уж извиняйте, если че тут не так намела. Я, жаба-разжаба, квашней тута рассиживаю, а дома корыто полно.
2
Проснулся Котька рано. День был воскресный, и они с вечера договорились с отцом сбегать утречком на реку, выдолбить вентеря. Уже два дня стоят, все проверить некогда было. Да пару починенных опустить, авось попадет какая рыбеха.
Он оделся, подошел к Нелькиной кровати. Сестра спала непутево: волосы раскудлатились по подушке, голова подвернулась, как у гуся, а руки у горла, в кулаки стиснуты. Котька подергал за угол подушки. Нелька что-то прочмокала, отвернулась к стенке.
— Так-то лучше, — успокоился он. — А то как померла.
Он пошарил на столе, отыскивая блесны, приготовленные вечером, заглянул в шкатулку с пуговицами, в коробку с клубками пряжи — нету. Да куда они делись? Откинул крышку сундука, проверил в боковушке.
«Отец взял», — решил он. Из кухни нанесло вкусным, как только приоткрыл дверь. Там что-то шкворчало, шипело. Не иначе, в честь воскресенья мать печет оладья на сале. Или картошку жарит. На свином-то сале ломтики — ого! Подрумянятся, только знай похрумкивай.
Но сразу, с бухты-барахты открывать, что там мать готовит, было неохота. Охота было продлить предвкушение, гадая, что же — оладышки или картоха?
Он тихонько высунулся из двери в коридорчик, прикрыл глаза и потянул носом.
«Не-е, — обманул себя, — не картоха». Хотя что было обманывать? Пахло именно картошкой, жаренной на старом сале, с горчинкой. Запах этот в воздухе носился, в синем, расслоившемся по дому чаду.
— Ты почо вытянулся? Котька! — встревоженно окликнула мать. Он открыл глаза, заулыбался. Мать стояла на порожке кухни вся розовая, но не от жара плиты, а от утренней зари. После метели заря радостно вымахнула алый хвост в полнеба, и свет ее даже сквозь обмерзшие стекла красно ломился в кухню. Ульяна Григорьевна глядела на сына с любовной печалинкой и все вытирала, вытирала руки суровым полотенцем.
— Мойся да завтракай давай, — сказала она, кивнув розовой теперь головой.
Котька хлопнул в ладоши, подбежал к умывальнику, плеснул в лицо водицей, кое-как обмахнулся полотенцем и — за стол, заерзал на табуретке. Смоченные волосы блестели, капельки воды щекотали брови.
— Утрись как следует, — ласково попросила мать. — Мокрым как пойдешь на мороз.
— Высохнет. Давай, мамка, да побегу.
— Нарыбачишься еще, успеешь, — проворчала она, ставя на стол сковороду. Вилкой разделила картошку, отгребла к краю. — Кушай, а это Неле… Отец ушел чуть свет, хотел тебя поднять, да я пожалела. Спал ты плохо, все руками тыркал, вскрикивал. Дрался, поди, с кем. Че снилось-то?
Котька отмахнулся. Что снилось? Не припомнишь сразу, да и припоминать некогда, если перед тобой редкая теперь, праздничная еда. Однако Котька не набросился на нее, не смолотил без оглядки, ел с достоинством, с полным на то правом: сам сходил, сала добыл, сам и ем. Всё мы сами, мы с усами. А что могло сниться? Чепуха какая-нибудь, а картошка не снится, вот она, наяву, хрустит на зубах, тает, жирная. Вон и губы в жире, не пожалела мамка сальца, правильно, что нам! Еще достанем, не поленимся. Вот так, пальцами отщипнуть хлебца, обязательно отщипнуть, а не откусить, и туда, к картохе, а сверху глоток чаю. Во-о-от любо-то как, сытно, можно до вечера дюжить, не охать.
— Ну, всех накормила, — легко вздохнула Ульяна Григорьевна. — Еще Неля встанет, поест — и слава богу. Вечером оладьев напеку. Уже картошки начистила. На терке протру, мучки добавлю — и бравенькие выйдут.
— Сама-то поела? — запоздало спросил Котька.
— Да уж поела, поела. Спал бы дольше. — Мать отвернулась к плите, что-то там смахнула тряпкой, соринки какие-то ей помешали, сдвинула кружок, заглянула, как там жар, не пора ли вьюшку прикрыть.
— Катанки достань. — Она показала глазами на шесток. — Отцову шапку надень, уши дома опусти. Эвон ремень, телогрейку подпоясь, на реке ветер строгий. Да не задерживайтесь до ночи, отца поторапливай, а то знаю вас: на рыбалке, что дети, делаетесь. Не доревешься. Пойдешь, я вслед на твой загад пошепчу, глядишь, сига во-о-от этакого вымахнешь.
Котька оделся, все сделал, как наказывала мать. Укутанный, одни глаза торчат, взялся за ручку двери. Из-под кошмы, прибитой к порогу, змеилась парная струйка, скатывалась на половик. Нижний шарнир густой шубой отметала изморозь. Мать еще успела поплотнее осадить на нем шапку, обдернуть сзади телогрейку, как-то незаметно скользнула руками по варежкам, сухие ли, и он вышел, оставив в коридорчике клубы пара и мать с поднятой, все еще ощупывающей рукой.
Не так уж холодно было на улице, как показалось ему с тепла, но скоро в носу закололо льдинками. Пар вылетал изо рта тугим облачком, будто упирался во что-то, на ресницы оседал иней, и они склеивались. Опушка на шапке и подвязанные под подбородком уши тоже забахромились инеем. Чтобы такой мороз был еще когда-то, Котька не помнил, по крайней мере на его веку не было.
Решил взять санки и скатиться на них по взвозу до самых лунок. Но санок под крыльцом не оказалось, зато разглядел следы от их полозьев. Значит, отец нагрузил на них вентеря и пешню, чтоб на себе бутор не тащить. Из-под доски завалинки торчал воробьиный хвост — рыженький, с черной окантовкой. Котька быстро прикрыл его варежкой, однако воробей не зашебаршил. Он осторожно отвел руку, и птичка выпала, стукнулась о носок валенка мерзлой картофелиной.
— Замерз, дурашка. — Котька поднял его. Воробышек лежал на варежке, притянув лапки к пепельному брюшку, смотрел белыми от выступивших и замерзших слез глазами.
Солнце недавно приподнялось над землей: багровый шар с оттопыренными багровыми же ушами, которые никак не могли оторваться от горизонта и, казалось, сдерживали, не пускали вверх светило. Котька варежкой продавил в сугробе у завалинки лунку, спрятал я ней воробья, сверху загреб сухим, как песок, снегом.
— Кореша́ на чердаке возле труб ночуют, а ты там чего не уместился? — произнес он над могилкой. — Вместе теплее, и от трубы греет. Поссорился, наверное, они и выгнали. А тут конец тебе пришел одному, видишь?