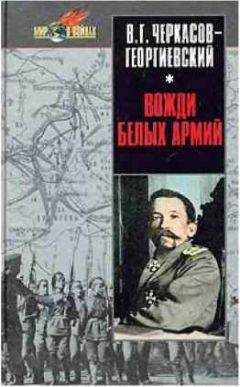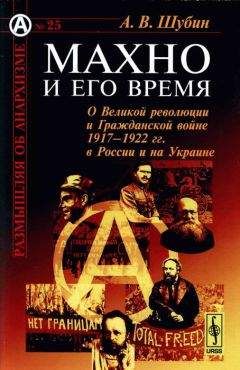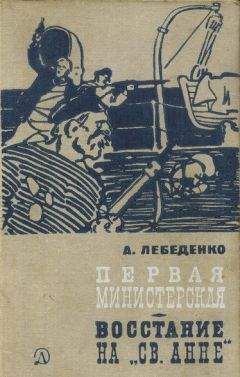Александр Лебеденко - Лицом к лицу
Позже в подворотню спустилась никому не знакомая ясноглазая девушка с пышными, какие не спрячешь, волосами. Она держалась в стороне и то и дело уходила в молчаливый, заложенный штабелями дров двор.
В одиннадцать часов сошел высокий человек в военной шинели. Ни к кому в частности не обращаясь, он спросил:
— Я из квартиры профессора Гейзена. Кто здесь записывает?
— Кто же это у Гейзенов? — шепотом спросила Нина. — У них ведь не было взрослых детей… И все они в отъезде. Во всей квартире только племянник, приехавший с фронта, и кухарка.
— Не все ли равно, — перебила ее Елена и отвела свой взор. У пришедшего было открытое обыкновенное лицо, русые, давно не стриженные волосы, неопрятными завитками побежавшие по затылку, и мягкие серые глаза.
Воробьев, проходивший мимо пришельца, махнул рукой:
— Пришли, ну и дежурьте свои два часа. Какая тут запись.
Пришелец стал ходить по двору, оглядывая черные окна и как бы только впервые знакомясь с домом.
Маргарита сбежала вместе с Петром. Они внесли шум и смех. Маргарита бросилась обнимать Елену и Нину. Елена снисходительно дала поцеловать себя в шелковистую холодную щеку.
— И вы тут? Ну, значит — здесь салон, — щебетала Маргарита. — Поставить гостиную мебель, граммофон, и можно открыть танцы.
— Ты готова танцевать на кладбище, — важничая, заметил Петр.
— Здесь прекрасный асфальт, почти как паркет, — сказала, кружась, Маргарита.
Воробьев взял ее под руку и не спеша повел во двор. Петр, покачавшись на каблуках, посмотрел им вслед и нырнул в темноту лестницы. Кровать прельщала его значительно больше прекрасного асфальта подворотни.
В замке чугунной двери на улицу — длинный ключ. Входивших и выходивших пропускал тот, кто был ближе к двери. Один из посетителей, намеревавшийся быстро пробежать подворотню, увидав Елену, сразу сломал поспешный свой шаг, замялся, вынул папиросу, спросил у Синькова огня и пустился с ним в рассуждения о ненормальном времени. Синьков, которому он помешал, насмешливо следил за собеседником, то и дело стрелявшим глазами в сторону Елены. Наконец Синьков не выдержал и спросил:
— Вы, гражданин, уходите или решили здесь заночевать? Тогда я запру дверь.
— Я сейчас, сейчас, — смущенно сказал гражданин, вынул изо рта папиросу и, подавив вздох разочарования, прошел на улицу, не отрывая взоров от Елены.
В подворотне раздался смех, сперва сдержанный, а потом, когда разрешающе улыбнулась сама Елена, более громкий.
Между тем гражданин в дверях столкнулся с Алексеем. Черных занес было ногу, чтобы переступить порог, но должен был податься назад перед напором человека, который выходил на улицу, не глядя перед собой.
— Тут весело, — сказал Алексей и шагнул через порог.
Он еще был под впечатлением боя. Странно было слышать смех в такую ночь…
Смех стих. Воробьев, Синьков демонстративно отвернулись. Ясноглазая девушка ушла глубже в темный двор.
Алексей внимательно осмотрел всех дежурных, протянул руку пришельцу из квартиры фон Гейзена.
— И вы уже дежурите?
Белокурый был рад знакомому лицу. На днях, когда он с чемоданом и ремнями переезжал в квартиру профессора, этот солдат встретился ему на лестнице. Он указал квартиру, он проводил до самой двери и, так как руки приезжего были заняты вещами, любезно нажал кнопку звонка.
— Жить здесь будете? — спросил он.
— Да, на время. Меня пригласил фронтовой товарищ, племянник профессора, поручик фон Гейзен. Квартира ведь пустая.
— Сбежал профессор, — недобродушно улыбнулся солдат.
— Нет, он, кажется, застрял на Кавказе. Выезда нет…
— Ну, живите благополучно. А вы сами тоже офицер будете?
— Военного времени. Я из студентов.
— Тут много офицеров живет. Не скучно будет.
Та же недобродушная улыбка играла на лице Алексея, и, должно быть, от нее становилось белокурому неловко.
— Это общество мне уже и на фронте поднадоело, — махнул он рукой и прибавил мечтательно: — Лучше бы удалось поучиться.
Теперь Дмитрию Александровичу Сверчкову — так звали белокурого — захотелось на глазах у всех отнестись к этому солдату благожелательно. Он крепко пожал ему руку. Пусть все видят. Алексей почувствовал пожатие, посмотрел на Сверчкова чуть скептически, но задержался.
— Как на новоселье?
— Ничего, отдыхаю, а потом надо было бы за какое-нибудь дело.
— Служить?
— Лучше бы учиться. Но придется и работать.
В ворота постучались.
Сверчков подошел к двери и спросил:
— Кто?
— Пустите, — шел из-за дверей сырой, без всякого звона голос.
— А вам куда?
— Куда нужно… Впустите, говорю.
— А паспорт есть? — хихикнул Синьков, поглядев на дежурящих и как будто сообщая им, что он решил пошутить.
— Бросьте дурака валять.
— Что вы, я вас пальцем не тронул, — острил Синьков.
В дверь ударил увесистый кулак.
— Стучать будете — и вовсе не пустим.
— Тьфу, дьявол, да кто вы такие?
— Это уж вы скажите, кто вы такой.
— Ну, я из тридцать четвертого номера — Смирнов.
— Ну, так бы и сказали. Ходите поздно. Что жена скажет?
Бормоча недоброе себе под нос, рыхлый человек в коротком рыжем пальто прошел во двор.
Через несколько минут сбежала горничная Бугоровских.
— Барыня беспокоится, что вы так долго, — обратилась она к Елене.
— Барынь теперь нет, товарищ, — сказал вдруг Алексей и выступил вперед. Его бесило это слово, зажигало под сердцем неуютный огонек. — Бар всех в Неву побросали. А каких не успели — те еще дождутся…
В подворотне осела вдруг тишина. Казалось, даже ветер улегся где-то у стены и затих.
Воробьев крякнул и выпрямился. Маргарита повисла у него на руке.
— Привычка, — махнула рукой горничная. — А известно, какие теперь баре? Подмоченные… — добавила она презрительно.
— Хам! — прошептал Синьков. — Расселся в генеральской квартире…
— Не надо, — тихо сказала Елена. — Я пойду. До свиданья. — Не подавая никому руки, она увела дрожащую, испуганную Нину.
— Не скоро еще отвыкнут, — почел долгом сказать Сверчков. Но сказал он это так, в сторону. Полные губы Алексея сжались и побелели.
«Отучим, как козырять отучили», — думал он про себя и если не сказал вслух, то из-за Сверчкова. Нарочито крепким рукопожатием он простился с ним и ушел.
Тогда девушка-незнакомка, которая удалилась было во двор, вернулась в подворотню. На ней было худенькое пальто, и ноги были высоко открыты. Была в лице ее большая прелесть от пышных волос и серых ясных глаз, простая и женственная прелесть, которую можно не заметить, но, заметив, нельзя забыть.
Сверчков стоял около девушки, изредка посматривая в ее сторону, и не уходил. К утру незначительные фразы, редкие, необязывающие, сделали знакомыми всех, кто был в подворотне, — и офицеров, и Катьку, и сероглазую девушку.
Хмурый свет ленивого утра постепенно разливался по улице. Проводив ясноглазую девушку до квартиры генерала Казаринова, где обитал теперь Алексей, Сверчков отправился спать.
Ульрих Гейзен уже лежал в постели. На ночном столике громоздилась пачка книг. Днем и ночью он читал много, жадно, без разбора, словно бы отгораживаясь от жизни пыльными полками книг, уходя в мир особых книжных измерений. В нем были задатки ученого. Род Гейзенов славился профессорами и доцентами. Но дядя не верил в добрую судьбу Ульриха. В племяннике было мало спокойного упорства, много порывистости. Мало мудрой рассудительности, много поспешности в суждениях.
Сверчков выбрал одну из книг на ночном столике и стал укладываться.
Дружба Сверчкова и Гейзена одинаково знала часы обоюдного молчания и взрывы горячих бесед…
Глава XVI
РАНТОВЫЕ ГВОЗДИ
Тихон Порфирьевич Шипунов любовался своим умением появляться неожиданно и беззвучно. За эти американские неслышные ботинки с каучуковой подошвой в два пальца он заплатил уйму денег. Анастасия Григорьевна старательно выщипывала у туалета брови. Шипунов подошел и звонко чмокнул ее в открытое плечо.
Анастасия Григорьевна вздрогнула, уронила серебряные щипчики, инстинктивно запахнула пеньюар и вся съежилась.
— Опять! — раздраженно крикнула она. — Кто вас впустил?
— Сам вошел, — радовался Шипунов. — И, представьте, не заблудился.
— Но я вас тысячу раз просила не входить без стука. Это невежливо. Даже к жене надо стучаться.
— Даже к жене? — удивился Шипунов. — Хорошенькое дело.
— И чмокаете громко, как сапожник.
— Сапожникам теперь завидуют… Они зарабатывают больше, чем профессора…
Успокаиваясь, Анастасия Григорьевна что-то соображала.
— На вас нельзя даже сердиться. Вы — самородок. Но вас надо учить.