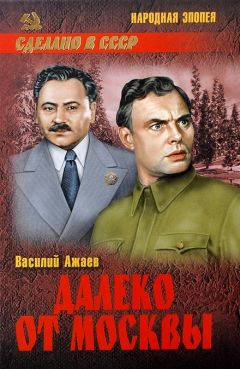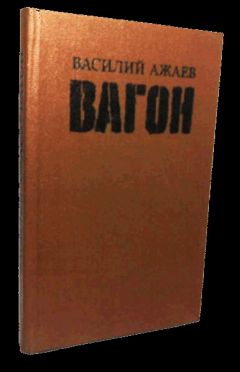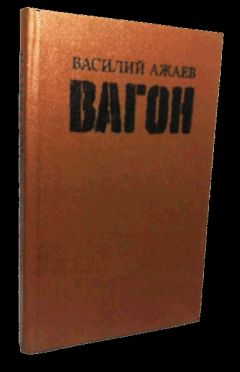Василий Ажаев - Далеко от Москвы
Ничего в комнате не изменилось: повсюду шитье, салфетки, коврики. В рукоделии Ольга удивляла даже Серафиму быстротой работы и замысловатостью рисунка. Прибавились новые вышивки — нанайские нарядные орнаменты; они занимали центральное место над аккуратной кроватью хозяйки. На прежнем месте была полочка с медицинскими книгами, тумбочка с патефоном и пластинками, туалетный столик — подарок больничного столяра, грубое зеркало и перед ним на кружевной полосе крошечные слоны с поднятыми хоботами, склянки с одеколоном и духами, большая расческа. На столе — книжки и тетрадки Константина. Они перекочевали из его комнаты сюда. Над столом, в расшитом мешочке — письма, записки, рецепты, газетные вырезки, а выше, надо всем — неизменный портрет Константина: голова с залысинами, большие роговые очки и застывшая на тонких губах ирония.
— Все такой же Константин Андреевич. Холодный философ, психолог, — неодобрительно сказала Таня.
— Все такой же, все такой же — сукин сын, — подхватила Серафима. Она стояла на пороге, заполнив собою весь дверной проем.
— Что у них происходит? Из писем Ольги я ничего не могла понять. Молчит она, когда дело доходит до Константина.
— И не говори! Я сама ее не пойму. Не греет он ее, не светит ей. Живет сиротой, замужняя вроде — и без мужа. Или не понимает, кто он есть? Или понимает, да не может от темной любви отделаться? Объясни ты мне, сделай милость!
— Привыкла она к нему, так я предполагаю. Все-таки прожили вместе три года. Ты думаешь, она страдает?
— Без глаз я, что ли?
Толстуха сунула руки под передник и опять начала сыпать скороговоркой:
— Как они жили в Рубежанске — не знаю. Но уехала она оттуда неспроста. Мне говорили, профессор в ней души не чаял, лучшая у него была помощница. Как называлась должность-то ее?..
— Ассистент?..
— Ну да, лучшая, словом, была у него. И вдруг бросила науку и уехала. Конечно, здесь она главным врачом в больнице и все ее уважают — не хочу сказать, что по работе она пострадала. Однако понимаю глупой своей головой: не могла Ольга с Константином жить. Сдается мне, что изменял он ей. Вот ведь пёс какой!.. Стали жить врозь, и надо бы ей забыть его. Так нет... Мучается. Потом он переехал сюда — не надо бы пускать, а она пустила. Пожили немного вместе. Ты была ведь у них, видела.
— Два раза всего и была. Не могу я его видеть! — Таня брезгливо поморщилась.
— Уехал обратно в Рубежанск, слава богу. То ли скучно ему стало здесь, то ли размолвились. Только уехал, и опять пошла канитель. Письма шлет: «Скучаю, обнимаю, целую». И между прочим: «Пришли костюм — поизносился», «достань отрез на брюки — у вас на стройке можно достать», «переведи денег, разбогатею — отдам». Другая бы плюнула на все это, она — нет! Старалась, из кожи лезла, свое кое-что продала тайком от меня — и все, что просил, посылала.
— Он, кажется, недавно снова приезжал сюда? — спросила Таня сонным голосом, задремывая под болтовню Серафимы.
— Приезжал... В середине лета, в августе. Мне тошно, а Ольга растерялась. Объяснила мне — в командировку прибыл. Но я тоже не слепая и вижу — человек вроде насовсем располагается. Но что-то у них тут произошло. Скандал какой-то. Меня целый день дома не было. Когда пришла, Ольга в своей комнате закрылась, а Константин чемодан увязывает. Она и попрощаться к нему не вышла. Он приоткрыл дверь и ей с порога: «Выгнала? Пожалеешь»...
— Молодец! — встряхиваясь, сказала Таня.
— Молодец-то молодец, а вижу — опять страдает. Уж и не пойму — жалеет его, что ли... А в прошлом месяце, двадцатого числа, последнее письмо прислал. Вот оно торчит в розовом конверте. Новость сообщил, как бревном по ногам: «Уезжаю добровольно на фронт. Хочу пролить кровь за Родину!»
Таня удивилась. Она даже привстала. Вот уж чего она никак не ожидала!
— Может быть, пыль пустил в глаза?
— Нет, как будто и взаправду уехал.
— Чудно, очень чудно! — Таня недоверчиво косилась на розовый конверт, торчавший из расшитого мешочка.
— Теперь рассуди дальше. Ушел на фронт — и пусть себе. Быть может, поумнеет. Но ей опять все не так. Мучается...
Серафима удалилась на кухню — посмотреть что-то на плите — и поспешно вернулась. Речь ее снова побежала ровным ручейком:
— О чем думает, о чем мечтает? Разве хорошего не найдет? Рогов — не пара ей? Видный мужчина, сильный, добрый, сердечный. Любит ее давно, еще с Рубежанска. И как любит — захоти она, так Александр Иванович луну для нес достанет с неба. Директором рыбного завода когда работал, разные копчености присылал, я не знала, куда их и девать, кладовую всю забила. Он уж мне жаловался: «В Рубежанске я на нее и смотреть себе не позволял: муж у нее был. Потом воспрянул: свободна она. Ничего, однако, не изменилось». Спрашивает меня: «Чем я ей не подошел?» Что ему скажешь? Хорош ведь человек. И сдается мне, что Александр Иванович нравится Ольге-то. Однако пойми ее: не подпускает она Рогова. Он из-за нее как сумасшедший подчас...
Таня вспомнила о письме Рогова для Ольги. Ей не хотелось самой подниматься, она попросила Серафиму достать конверт из мешка. Копаясь в мешке, хозяйка продолжала бубнить:
— Предположим, в Рогове она почему-нибудь сомневается. Другой тебе случай. Главный инженер живет у нас, славный, самостоятельный человек. Добрый, ласковый. И одинокий. Чем не хорош? Почему не нравится? Что она за человек?
Таня представила себе Беридзе и Ольгу вместе, это ей не понравилось, и она сказала с недовольством:
— Не подходит Беридзе для Ольги.
— Не подходит для нее? Для кого же подходит?
— Ни для кого. Ты не кидайся от одного к другому.
— А ты все одна, Танечка? Все принца ждешь? — оживленно спросила Серафима, — Я посмотрю — Женька умнее вас, двух дур. Обходится без страданий-переживаний, всегда ей весело.
— Не туда смотришь, тетка, — с досадой сказала Таня.— Рассуждала, как умная женщина, и сбилась. Не хватает тебя на серьезный разговор.
Серафима с гордостью поведала Тане о заведенном ею хозяйстве: чушки, куры с петухом, три гуся; бочка с огурцами, бочка с капустой; несколько мешков картошки в погребке. Тане пришлось подняться и взглянуть на все эти богатства.
Они заглянули в комнату, которую теперь занимал Беридзе. Несколько мелочей изменили это несимпатичное Тане былое жилье Константина. Смешанный запах табака и одеколона («много курит и ухаживает за бородой, брызгает на нее духами», — объясняла дотошная Серафима); свежие технические журналы с бумажными закладками («приходит поздно и читает, читает до рассвета»); раскрытый том Маяковского, несколько трубок, охотничье ружье на стене и под ним фотоаппарат на ремне («Ольгу приглашал сниматься — отказалась, меня снял, смеется — едва мол уместилась на карточке»); фотография симпатичной седенькой старушки («мать его, она в Грузии живет, в том месте, где родился Сталин; нежно очень о матери отзывается, деньги ей посылает и письма»); искусно сделанные макеты мостов, модель какого-то цилиндрического сооружения, кипа фотографий дальневосточной тайги и Адуна («рассказывал нам — всю страну обходил, на многих стройках работал, смеется — строить буду, пока белых мест на нашей земле не останется, тогда сам себе построю памятник и лягу под него»),
Ольга застала их беседующими.
— Сплетничаете? — спросила Ольга, подозрительно взглянув на Серафиму, на подругу и на портрет мужа.— Ты, хозяйка, и отдохнуть человеку, наверное, не дала своей болтовней.
Серафима сразу притихла, подхватила цигейковую шубу племянницы и скрылась. Подруги обнялись.
— Египтяночка, похудела, глаза стали еще больше, — ласково сказала Таня.
— Опять болею, — Ольга подняла забинтованные руки.
У нее дважды в году повторялись приступы суставного ревматизма. Она спокойно смотрела на Таню большими светло-голубыми глазами. В гладкой прическе с пробором посредине, в чуть заметных горьких складках губ, во всем ее тонком лице таилось выражение строгой печали.
Таня снова с горячностью обняла Ольгу. Одинаковые ростом, они резко отличались друг от друга: Таня казалась крепче, сильнее нежной, хрупкой и смуглой Ольги.
— Жалеешь меня, дорогая подруга? Вижу, Серафима наговорила тебе всякую ерунду — ты и раскисла.
Ольга высвободилась из объятий Татьяны и попросила ее развязать на спине тесемки докторского халата. Сумерки быстро сгустились, к окнам подступила ночь. Подруги посидели в потемках, пока электростанция не дала свет. Ольга, как ребенка, укачивала то одну, то другую свою руку.
— Тебе надо бы лежать, не ходить в больницу, — сказала Таня. — Представляю, сколько у тебя там хлопот. Я слышала, половину медицинского персонала призвали и армию...
— Маловато нас осталось. Вот и нельзя мне сидеть дома. Да и моему ревматизму лучше, когда я много работаю. Люблю я свою больницу, Татьянка, и не представляю себя вне ее.
Как обычно бывает с близкими друзьями, встретившимися после разлуки, они касались в разговоре многих тем, быстро перескакивая с предмета на предмет.