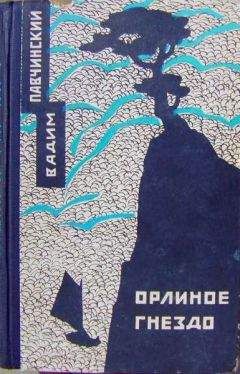Владимир Садовский - Алмазная грань
— Что это у вас за синодик? — спросил Корнилов.
— Копия ревизской сказки, поданной служителем вашей бабки Агафоклеи Ивановны уездному землемеру поручику Гавриле Лобазину. Этому синодику сто лет без малого. Ревизскую сказку писали после смерти вашего деда.
— Видите, дед умнее нас был: все производства имел. А мы, как привязались к хрусталю, больше знать ничего не хотим, — усмехнувшись, заметил Алексей Степанович.
— Пристрастие к одному делу неплохо, пока оно в гору идет, но коли под гору катится — надо посторониться, а не то зашибет. Отойди в сторонку да погляди, нельзя ли за другое приняться.
— За винокуренье, к примеру?
— Хотя бы и за него. Хлеба, правда, в наших местах не густо родятся, но все же кое-что остается у помещика. В город, что осталось, он не везет: дорога дальняя — выгоды никакой. На спирт перекурить проще.
— Я хлеб на спирт перегонять буду, а крестьянину с семьей с половины зимы есть нечего.
— О нем не вам заботиться, дорогой Алексей Степаныч. Ныне мужик вольный. Над ним царь — господин и перед богом ответчик. Пусть царевы министры думают, как мужику жить.
— Совести в таких рассуждениях не вижу.
Управляющий обиделся Он посмотрел на Корнилова искоса и сердито заметил:
— Перед хозяевами моя совесть чиста: ни одной копейкой за всю жизнь не попользовался. А в другом до моей совести никому дела нет. Монахи, спасающиеся от мира, да девушки на выданье пусть думают о совести. Если нам о ней думать — работать нельзя будет...
От Картузова Корнилов ушел, так и не получив доброго совета.
«Что же дальше будет с мастерами?» — огорченно думал хозяин. Десять печей днем и ночью варили стекло, и все оно уходило по распоряжению управляющего на дешевые стаканы и графины.
4В полночь, когда в окнах гасли последние огни, Василий с Парамоном только еще подходили к поселку. Позади взрослых брели уставшие ребята. В стороне от поселка, ближе к дороге, темнели ушедшие в землю запорошенные снегом постройки. Сизый дым плавал над ними, и у Кострова запершило в горле,
— Чего тут у вас? — спросил Василий. — Дух аж спирает. Ну и завод!
Парамон глухо рассмеялся.
— Где же ты завод-то увидел, елова голова? До завода версты две еще. Это, милок, Райки. Подземный рай, проще сказать. Тут рабочий люд живет.
— Смеешься, поди? — недоверчиво спросил Костров. — Кто же станет жить здесь, когда поблизости столько изб?
— Избы-то, чай, чужие, тятя, — раздался сонный голос Ванюшки.
— Верно, малый, — подтвердил Парамон. — Избы-то есть, да не про нашу честь. Вьется мужик, словно лист осенний. Повсюду раскидало его. Здесь люду нанесло — конца-краю нет. В работе не отказывают, а жить устраивайся как можешь. Тут, в Райках, мордвы много. Им почету-то еще меньше. Накопали нор в земле, как кроты, и живут целым селом. Топятся по-черному, глаза у всех болят. Иные говорят — от дыма, а другие толкуют про болезнь — трифому. В заводе мордвинам тоже не сладко: работенка какая потяжеле им перепадает. Нам хорошо, а кому-то еще лучше.
Парамон раздраженно плюнул и умолк.
— Чего же ты завод-то больно расхваливал? — спросил Костров. — «Пойдем со мной, к делу приставить могу...» Балалайка бесструнная! Зачем поволок? Ребята умаялись, еле идут.
— Я что тебя, силой, что ли, тащил? — огрызнулся Парамон. — Ишь, девка красная! Обманули. Да на кой хрен ты мне сдался. Возись с ним, а он как лошадь норовистая: то лягнуть, то в кусты метит. Гуляй сам по себе, друг. Попросись к кому-нибудь переночевать, авось пустят. Ко мне, коль штофик будет, милости прошу в праздничек наведаться.
Костров не успел ничего сказать, а Парамон уже нырнул куда-то в проулок между избами и исчез.
— Ох ты господи, — растерянно промолвил плотник, спуская с плеч сундучок. — Куда же теперь деваться, ребята?
— Может, постучаться в избу к кому? — неуверенно предложил Тимоша.
— Попробуй. Авось найдется добрая душа, пустит, — согласился Василий, присаживаясь на сундучок. — Постучи-ка.
Тимоша постучал в окошко крайней избы и испуганно отскочил. За воротами послышался злобный лай. Собака забегала у калитки и сунула в подворотню оскаленную морду.
— Видно, не пустят, — вздохнув, решил Костров. — Только собак взбулгачим. Народ-то здесь, похоже, кряжистый. Пойдемте, ребята, в Райки, там, может, люди попроще...
Двери землянок в Райках плотно не прикрывались. Костров отворил первую попавшуюся из них и увидел запорошенные снегом крутые ступеньки, уходившие куда-то далеко вглубь.
— Заходи, заходи, ляляй, — послышался из-под земли голос невидимого человека. — Ночевать хочешь? Место есть, только ужина не взыщи. Ты ощупью пробирайся, ощупью, а то темно. Ложись у стенки. Блох ныне мало осталось: холоду не любят.
Вцепившись в полу отцовского полушубка, Ванюшка, спускаясь по крутым ступеням, осторожно передвигал ногами. Тимоша ждал наверху около оставленного старшим Костровым сундучка. Потом, подняв его на плечи, тоже спустился в землянку. Василий разделил на всех ломоть застывшего на морозе хлеба, съел свою долю и, укладываясь, тихо сказал:
— Свет-то все-таки не без добрых людей. Вот он, к примеру, мордвин, а душа у него лучше, чем у прощелыги Парамошки. А уж ежели сказать...
Но что он хотел еще сказать, Ванюшка и Тимоша не узнали. Василий умолк на полуслове и уснул. Через минуту заснули и притомившиеся с дороги ребята. Они лежали, тесно прижавшись друг к другу, не чувствуя ползшего из-за двери холода. Все в землянке спали крепко. Только полуночники тараканы, шурша, бродили где-то в темноте за печкой.
Глава пятая
Шума Федор Кириллин не любил. Приходя с завода, он вешал на гвоздь войлочную шляпу, снимал скрипящие остроносые сапоги, переобувался в валяные туфли.
Дома Федор Александрович старался двигаться осторожно, но крашеные половицы скрипели, а из дубового шкапа слышался тихий звон хрусталя. Словно стыдясь своей неловкости, доставлявшей беспокойство любимым вещам, Кириллин еще тише проходил мимо шкапа.
Высокий человек с курчавыми русыми волосами любовно смотрел на свои богатства, собранные за многие годы: темно-лиловые кубки, перошницу, жбан с бокалами на подносе, небольшой кувшинчик с голубыми медальонами. Среди дорогих сердцу вещей была одна самая любимая — прозрачная как льдинка хрустальная ваза. Попалась как-то случайно Федору Александровичу картинка на которой была изображена старинная ваза. Картинка поразила Кириллина. Он жадно разглядывал каждую линию рисунка и в душе восторгался мастерством неизвестного художника. У Кириллина мелькнула мысль: «Не попробовать ли мне такую сделать?» Эта мысль немного смутила гутейского мастера, показалась дерзкой, но смущение прошло, а желание осталось. Федор Александрович решил, что нужно попробовать. Он стал еще пристальнее разглядывать рисунок вазы, напоминавшей яйцо какой-то сказочной птицы. Оно стояло упершись острым концом в тонкий стебель подставки, вокруг которого переплелись причудливые цветы с широкими лепестками и гроздья винограда. На крышке вазы распростерся крылатый дракон, свернувший кольцами хвост. Между вытянутыми лапами лежала голова чудовища, стерегущего яйцо.
«Добрая работа, — пряча картинку, заметил Кириллин. — Только чудищу здесь не место. Такая вещь на радость, а не на устрашение должна служить. Я свою по-иному сделаю».
Когда доделывали хрустальные подвески к люстрам, под конец работы Федор Александрович набрал в трубку горячего стекла и стал выдувать его в деревянную форму, которую принес из дома.
— Одну штуку хочу сделать, — сказал мастер, заметив недоумевающий взгляд подручного. — Давно задумал.
— А может, лучше из цветного стекла?
— Э, нет. Вещь благородная. Для нее и золотой рубин не подойдет. Только хрусталь, самый чистый.
Когда стекло остыло до твердого состояния, Федор Александрович осторожно вынул из формы большой прозрачный желудь, сидящий в чешуйчатой скорлупке. Тонкие стенки его, казалось, не могли выдержать даже легкого прикосновения человеческих рук. Но Кириллин смело щелкнул пальцами по желудю, нежно зазвеневшему от пробного щелчка, и сказал:
— На, Алексей, обогрей, пока я подготовлю ножку.
На вторую трубку набрал стекла, подготовил его и в новую форму выдул длинную ножку. Разогрев докрасна хрустальную ножку, Федор Александрович быстрым движением прилепил ее к сверкающему желудю, и подручный не смог сдержать удивленного возгласа:
— Да ты чудо какое-то сотворил, Федор Лександрыч!
— Чудеса потом будут, — заметно польщенный похвалой, весело отозвался Кириллин. — Ты, Алексей, приходи смотреть, когда отделаю.