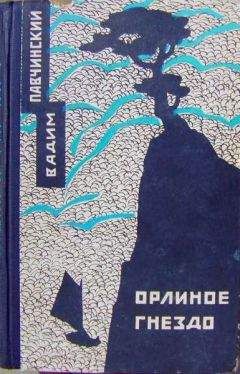Владимир Садовский - Алмазная грань
— На вашей вывеске написано: «Стекольный завод Алексея Корнилова и сыновей». При чем же тут сыновья, если вы превращаете завод в убежище для призреваемых?..
Георгий почувствовал себя обиженным. Вышел, захлопнул за собой дверь, но отец даже не оглянулся. Он задумчиво разглядывал текинский ковер, на котором висел кривой дамасский клинок и два старинных кухенрейтеровских пистолета. Алексей Степанович пытался понять, зачем все это нужно сыну. «Жорж никогда не держал в руках ни пистолета, ни шпаги. Судя по такой коллекции, можно подумать о том, что наши промышленники — воинственные люди. А они привыкли поражать противников не шпагой, а аршином, не пулей, а протестованным векселем».
3Сыновья были явно недовольны.
В глазах предприимчивых европеизированных дельцов Алексей Корнилов выглядел старомодным и ограниченным. Отец сознавал это, но уступать не хотел.
Много лет минуло с той поры, когда Алексей Степанович отплыл на итальянском бриге от родных берегов. Франция дала приют отставному офицеру гвардии, увлекшемуся проповедью русских изгнанников. Опасность оказалась меньшей, чем он полагал. О нем вскоре позабыли, и если бы Степан Петрович начал хлопотать раньше, то Алексею можно было давно вернуться на родину.
Годы Алексей прожил в Париже. Не раз он бывал и в городке Баккара. Здесь, на родине французского хрусталя, в небольшом городке с черепичными крышами и разбитыми вокруг садиками, Корнилов невольно вспоминал родное Знаменское. Снова, кажется, возникали перед его взором крытые соломой и потемневшим тесом избы, непросыхающая лужа у дверей лавки, где вороватый сиделец торгует черствыми баранками, воблой да водкой; вспоминал и чахлые герани на маленьких оконцах.
На заводе в Баккара Алексей с восхищением следил, как проворно и бережно укладывали подносчики дорогой хрусталь в легкие корзины. Один из рабочих однажды замешкался, и большая хрустальная ваза выскользнула у него из рук. Звеня, она рассыпалась по полу сверкающими осколками. Рабочий побледнел, глядя на приближающегося мастера. Алексей Степанович ждал бурной сцены, но ее не произошло. Мастер посмотрел на осколки вазы, покачал головой и, переводя взгляд на побледневшего рабочего, сделал пометку в записной книжке.
— Жак Лубэ — штраф четыре луидора, — вслух повторил мастер запись и, не взглянув на виновника гибели вазы, отошел.
Корнилов бросился за ним вдогонку.
— Простите, — смущаясь сказал он. — Я хочу уплатить стоимость штрафа, наложенного на этого бедняка.
Мастер остановился, вынул изо рта сигару и, чуть прищурясь, с любопытством посмотрел на необычайного посетителя. Вежливо притронувшись к своей шапочке, мастер сказал:
— Извините, месье, не имею чести быть знакомым. Вы желаете помочь Лубэ? Мне очень жаль работника, но денег от вас я не приму. Штраф накладывается для возмещения ущерба, причиненного небрежностью рабочего. Он заставляет его быть внимательнее и осторожнее. А когда рабочие бывают недовольны, тогда они устраивают стачки. Я тоже кричал: «На фонарь Кавеньяка!» Впрочем, это прошло. Демонстраций у нас не разрешают... Хотите помочь Лубэ — зайдите к нему или подождите его у ворот. Через дорогу наш магазин, где вы можете купить лучшие вазы нашего завода не дороже двух луидоров за штуку.
Алексей Степанович покраснел от этой наглой иронической отповеди и не нашелся, что ответить.
Сколько таких неловкостей случалось с ним в жизни. И все же он не мог победить в себе того, что считал в глубине души сентиментальностью.
Глава четвертая
Дым от махорки повис над столами, над стойкой, где хозяин трактирного заведения проворно отпускал половым водку, баранки, сахар.
Под вечер в трактире всегда было людно. Сюда заходили, возвращаясь из города, мастеровые; останавливались шедшие с товаром на станцию обозы: возчики любили погреться с холода парой чаю. Пьяный гомон, крики, споры, песни, сливаясь в нестройный гул, заполняли невысокое помещение, освещенное тускло светившей лампой.
Гул немного стихал, когда кто-нибудь поднимался с места и, покачиваясь, шел к стоявшему у буфетной стойки высокому ящику. Опущенный пятак приводил «машину» в действие. Скрипнув, валик начинал хрипло тянуть знакомую мелодию:
Шумел, горел пожар московский,
Дым расстилался по реке...
Вытянув под столом уставшие ноги, Тимоша боролся с дремотой, склеивавшей налитые свинцом веки Мальчику было жарко, хотя он уже снял полушубок. Положив его на лавку, Тимоша приглядывался к соседям, побаиваясь недоброго человека, который может прельститься его одеждой.
Мальчику не нравился трактирный гомон и пьяное оживление Василия Кострова, распивавшего вторую бутылку водки с приятелем, оказавшимся в трактире. Сын Кострова, Ванюшка, прислонясь к стене головой, спал, а Тимоша с тоскою думал о своем двугривенном. Он был единственным, и если бы не дядька Василий, Тимоша ни за что не стал бы тратить в трактире деньги, которые мать дала на дорогу.
Старшего Кострова нельзя было узнать. Захмелевший, с растрепавшимися волосами, он сидел, обнявшись с незнакомым мужиком, и сиплым фальцетом подпевал трактирной «машине»:
Судьба играет человеком,
Она изменчива всегда:
То вознесет его высоко,
То кинет в бездну без стыда...
— Верно, милок, верно, — кивая головой, соглашался приятель Василия, поглаживая рыжеватую бородку и насмешливо поблескивая черными глазами. — Вознести-то, злодейка, забудет, а кинет — без ошибки.
— Парамон... Думаешь, сам в город-то иду? Нужда гонит.
— А ты не ходи. Чего в городе делать? Иди с Парамоном. Он тебе первый друг.
— А куда же мне с тобой идти? Ты дом ставить хочешь? — заплетающимся языком бормотал Костров. — Богатый, знать... Дом я тебе поставлю... Анбар срублю, доволен будешь. Я топором чего хочешь сотворю, только скажи. Тебе дом надо?
— Мне домовина из трех досок, может, понадобится, а дом ни к чему. Я, милок, не мужик, не купец и в дуду не игрец — птица вольная, веревочкой связанная. Был мужик, да весь кончился. Померла у меня баба, а мне помирать не захотелось. Земли клочок дали вместе с волей, а выкупать денег не нашел... Оно вроде ни к чему и воля стала. Ушел я из деревни. Сети славно вязал, а ныне все позабыл. Осьмое лето на стеклянном заводе в шихтарне пыль глотаю. На зубах, окаянная, хрустит... Ну, да ладно, живу. Домов мне, милок, не надо, но к делу я тебя определю: на заводе всякого люду только давай. Ящиков для товара да коробьев видимо-невидимо требуется. Дело верное, милок. А так куда пойдешь? Прежние фабрики в корень изведены.
— Теперь винокурни, слышь, ставят, — отозвался Костров.
— Когда еще поставят, а старых фабрик мало остается. В скудность приходят наши края, так что за работенку держаться надобно. Думаешь идти — пойдем, а то потолчешься в городе да сюда же и вернешься.
Василий ничего не ответил. Он сидел с закрытыми глазами, казалось спал. Парамон подождал немного и, пошатываясь, побрел к двери. Костров вдруг поднялся и крикнул:
— Погоди малость, Парамон!.. Сейчас.
Растолкав задремавших ребят, Василий подхватил на плечо зеленый сундучок и пошел к Парамону, поджидавшему у двери.
2Прав был Парамон. Прогорали старые мануфактуристы.
Травой запустения покрывались дворы заброшенных фабрик. Глухая крапива и молодые березки росли в неположенных местах — на крышах разоренных заводов.
Петр Великий учредил Берг-коллегию, чтобы она вела учет рудных богатств и железоделательных заводов Российского государства. В ведомости Берг-коллегии записали железный завод компанейщиков — Панкрата Рюмина с товарищами, стоявший на реке Туманке в сорока верстах от корниловского хрустального. На окраине уездного города компанейщики поставили плавильню, рядом с ней — контору и каменную церковь. День и ночь дымила единственная домна завода. Оброчные крестьяне отливали котлы и чугуны. Проезжавший здесь академик Паллас, описывая свое путешествие, сказал про городишко, около которого имели компанейщики завод: «Он весьма жалок. Жители его лентяи и враги всякой промышленности». Но неудобств от соседства с лентяями компанейщики не испытывали. Завод работал исправно. По десяти тысяч саженей дров, покупаемых в казенных лесах, сжигала за год плавильня. Тридцать тысяч пудов разной посуды изготовляли здесь за год и переправляли ее на берега Волги, в калмыцкие степи, на ярмарки Малороссии.
В Анзыбее и Богородском, неподалеку от Знаменского, стояли суконные фабрики. По подрядам главного Кригс-комиссариата они поставляли для армии тысячи аршин сукна и каразеи. Стучали ткацкие станы полотняных и парусных фабрик, готовивших оснастку для кораблей. Казна щедро оплачивала заказы. Но появились паровые суда, отпала надобность в парусах, и захирели после того ткацкие фабрики. Задымили где-то далеко на юге большие заводы, поставленные англичанами и бельгийцами поблизости от угольных шахт и железных рудников Новороссии, и покатились под уклон старинные заводские вотчины. Даже потомкам Демидова — князьям Сан-Донато — оказалось не по силам тягаться с англичанином Юзом, бельгийскими и французскими предпринимателями. Они всю Россию завалили дешевым железом, сталью, рельсами, тавровыми балками. Поспевали иностранцы делать и котлы, и чугуны, и печные вьюшки. Привозилось это за сотни верст, а стоило дешевле, чем у Рюмина и иных российских предпринимателей. Пошатнулись маленькие железоделательные мануфактуры. Двадцать лет назад выдал последнюю плавку завод Панкрата Рюмина и закрылся. Только чугунные намогильные плиты, под которыми покоился прах содержателя железного завода, напоминали о том, что в этих местах существовал когда-то такой завод. Развалились стены плавильни, осыпалась плотина на реке; светлая вода, журча, бежала поверх догнивающих свай, опутанных зеленой сетью водорослей.