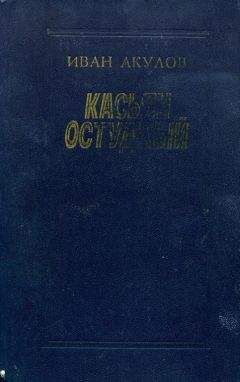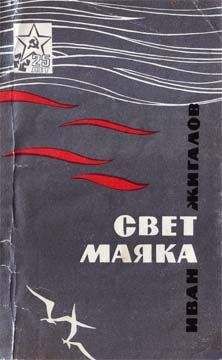Иван Акулов - В вечном долгу
— Клавкой Дорогиной ты бредишь. Она всем вам дорогу перешла. Что ж, Клавка — девчонка модная. Только ведь она — земля опаханная.
— А ты?
— Я что? У каких-то птиц — уж не помню, у каких — есть такой закон. Побывал ихний птенец в человеческих руках — родители выбрасывают его из гнезда. Понял? Вот и мой муженек грозится отсечь мне голову. Стало быть, не нужна я ему. Да если и нужна была, не стала бы с ним жить. На кой он мне после тебя, Алешенька? А ты любишь меня, Алеша? Скажи мне.
— Я думаю о тебе, Женя. Последнее время очень часто думаю.
— Значит, любишь.
— Не знаю, Женя. Ого, времени-то, — вдруг встрепенулся Алексей и начал быстро одеваться, приговаривая: — Приду к тебе — и, как муха в патоке, завязну. Опять опоздаю в контору. Фу, черт, — беззлобно ругался он и никак не мог крупными пальцами ухватить и застегнуть пуговицу рубашки на горле.
— И ничего ты не можешь. Дай я. Вечером придешь, Алеша? Ой, брюки-то, где ж ты их так-то? Смотри. Это у тебя выходные, а ты их не бережешь. Сними, я почищу.
Всегда с величайшим старанием и удовольствием Евгения стирала, гладила на Алексея. Он, такой большой, рослый, рукастый, казался ей маленьким, беспомощным ребенком, и она считала приятной обязанностью следить за его одеждой и при этом журила его с материнской ласковостью:
— И ничего ты не бережешь. Прямо горе мне с тобой. Вечером ждать, а, Алеша?
— Не знаю. Не знаю. Опоздал, черт такой.
У самых дверей он привлек к себе Евгению и, горячую, покорную, поцеловал, выскочил на улицу. А она опять осталась, и опять счастлива. В комнате все напоминает о нем. В углу на тумбочке его выстиранная и выглаженная рубашка, книжки по агрономии, без которых он дня не может прожить. На вешалке его плащ. С осени еще висит. Евгения закрыла за Алексеем дверь и прижалась лицом к его плащу. Ее он, Алешка. Что она захочет, то с ним и сделает.
А Мостовой торопился. С вечера они с председателем Лукой Дмитриевичем договорились, что чуть свет поедут в исполком райсовета утверждать план посевной. Лузанов наверняка уже в конторе. Ждет. И когда спит человек?
Алексей бесшумно, на носочках, спустился с крыльца, как обычно, чтобы не наткнуться на Буранка, прошел возле самой стены по земляной бровке, уже вытаявшей и высохшей на солнце, и через открытую калитку вошел в огород.
Только он поравнялся с углом конюшни, как навстречу ему, разгибаясь и расправляя на себе юбки, вышла Елена Титовна.
— Да ты что, ни дна тебе, ни покрышки, будто хозяин в моем доме! — закричала хозяйка в испуге и злости. — Где хочешь, там и гуляешь. Гляди вот…
Алексею было стыдно и горько за себя. Почему же он ходит к Евгении всегда крадучись? «Как все глупо! Кончать надо с этим».
Вдруг Мостовой услышал за своей спиной какое-то странное и тяжелое сопение. Он обернулся — на него, ощетинившись до самой морды и скаля ядовито-белые клыки, летел Буранко. Счастье Алексея, что Пластунова спустила кобеля вместе с длинной тяжелой цепью. Цепь застряла где-то на повороте, под гнилым углом конюшни, и Буранко не сразу освободил ее.
Не помня себя, Мостовой махнул через тын в соседний огород и в сумятице страха даже не услышал, как располосовал сзади правую штанину от колена без малого не до пояса.
Выбравшись на зады села, Алексей спустился под берег Кулима и, поминутно озираясь и боясь случайной встречи с кем-нибудь, пошел в Обвалы. Поездка в город срывалась. Но Мостового угнетало не только это. Пожалуй, горше на душе было оттого, что Елена Титовна непременно разнесет по селу слух о травле агронома собакой. Ходи, да знай тропки.
XX
То ли выплакала Клава все свое горе, то ли, узнав правду, удовлетворилась ею, только письмо встретила с большим внутренним спокойствием. Письмо было на толстой белой бумаге без линеек, но строки его вились ровно, красиво, без помарок и исправлений. «Грамотная, по всему видать», — усмехнулась Клава и, вдруг осудив себя за какие-то пустые мысли, принялась читать вдругорядь, постигая смысл:
«Я знаю, нелегко получить вам это письмо, но оно же и принесет вам облегчение. Для вас теперь кончится слепое неведение, а Сергей, по просьбе которого я пишу, должен быть вами забыт. И сейчас, а в будущем тем более, между мной и Сергеем много общего, что объединяет нас и делает нас просто необходимыми друг для друга. Впредь не беспокойте нас своими письмами. Уважающая вас Лина Соловейкова».
«Уважающая, — опять усмехнулась Клава, свертывая письмо. — И я буду уважающей. Домой приедет — меня никак не обойдет. Такой уж он необходимый. Впредь не беспокойтесь. Уважающая вас Клавдия».
Клава подошла к топившейся печи, бросила красиво написанное на хорошей бумаге письмо в огонь и, поглядев, как оно мгновенно вспыхнуло, почернело и рассыпалось, сказала вслух:
— Погоди, и я тебе напишу такое письмо. Только почерк у меня похуже будет и бумаги такой не найду. Не обессудь.
— Ты с кем там, Клавдея? — спросила из горенки Матрена Пименовна.
— С кошкой, мамонька.
— Пакость у нас кошка. Гони ее.
XXI
В каждом стеклышке играло солнце. На ободранном и исцарапанном гвоздями полу лежали яркие холстины солнца. Где-то под стеной уютно и задушевно разговаривали куры о своем курином житье-бытье и о теплой благодатной погоде. Иногда хрипло и надрывно горланил петух, после каждого припева весело подговариваясь к курам.
Лука Дмитриевич, в хромовых сапогах и брюках военного покроя, в новой серой фуражке, нетерпеливо ходил по своему кабинету и ни за что не мог взяться. Уже пора бы давно выехать, но нет Мостового, а у него все планы, расчеты и записи по севу. Когда не нужно, он спозаранок тут, а сегодня к спеху — черти на нем куда-то уехали. Доведись до кого другого, давно бы Лузанов махнул рукой и укатил один, а потом показал бы несчастному, где раки зимуют. Жестковат с людьми новый председатель. Он считал, что все неполадки в колхозе наверняка можно выправить, если держать людей в ежовых рукавицах. Но с Мостовым Лузанов на другой ноге: у агронома — большой козырь против него, председателя, — разговор про котелочек возьмет и припомнит где-нибудь не к месту. И пой тогда, гражданин Лузанов: «Солнце всходит и заходит…» Да и нутром крестьянина Лука Дмитриевич понимал, что Мостовой — ретивый и толковый работник, и за него надо держаться.
Чем ждать, лучше идти навстречу. Лузанов надел свое легкое полупальто и вышел из кабинета. По пути заглянул в бухгалтерию, буркнул зло и коротко:
— Здраст…
— С добрым утром, Лука Дмитриевич, — в голос отозвались счетовод Валентина Вострецова и стоявший у ее стола, как всегда, небритый колхозный конюх Захар Малинин. Бухгалтер Тяпочкин, задрав свой острый нос к потолку, пил воду прямо из горлышка графина и не ответил совсем.
— Тяпочкин! — крикнул Лузанов.
— Слушаю.
— С похмелья, что ли, хлещешь воду с утра? Появится Мостовой — пусть ждет меня. Я — в Обвалы.
У ворот председатель отвязал серого вислозадого мерина и сел в ходок, вывертывая на дорогу. Сзади окликнули его, но Лузанов не обернулся, знал: обязательно что-нибудь клянчить будут. Вроде председатель колхоза помещик, что ни попроси, то и даст. Ни черта нет у председателя. Тут вот сев на носу, а еще семена не привезены. Ну, семена — ладно, их каждый год дают. Дадут и нынче. А вот где картофель взять на посадку. Хоть сам иди Христа ради по селу.
Мерин шел гонкой рысью. Дорога была сплошь покрыта хрупким белым ледком. Он звонко трещал, лопался под копытами коня и белым крошевом вышивал колесный след. За спиной Лузанова вставало солнце и пригревало.
В Обвалах из-под ворот первого дома прямо под ноги лошади с визгливым лаем бросилась мохнатая рыжая собачонка. Лаяла она долго, усердно, с полным сознанием своего собачьего долга. Шагов через сто ослабла, начала отставать, и, когда поравнялась с ходком, Лука Дмитриевич жигнул ее острым ременным кнутом. Собачонка с визгом, но без лая скатилась с дороги на ледок канавы и с горьким собачьим воем побежала обратно.
Подъезжая к дому Глебовны, Лузанов удивленно подумал: «Хибара того и гляди рухнет. А он хоть бы словечко. Чудно как-то. Хм».
Не вылезая из ходка, Лузанов дотянулся до ближнего окна, треснул кнутовищем в оконную раму, и тотчас за чистым стеклом мелькнуло испуганное лицо Анны Глебовны. Вскоре она сама вышла из ворот.
— Думаю, кого это лешак догибает. Здравствуй, председатель. За Алешкой, надо быть? Ах ты, окаянный народец, да нету его. Не ночевал вовсе. Ладно ли уж с ним? Мурыжите его на работе с утра до ночи — вот и отбился от дому.
— К вдовушкам прибился он.
— Да уж будто? Ай он плохо работает?
— Чего нет, того нет. Так где же он все-таки?
— И верно, где же он, — как эхо отозвалась Глебовна и из-под руки поглядела на дорогу. — Ох и сполошный. Не дает мне знику. Уж больно он тебе нужон?