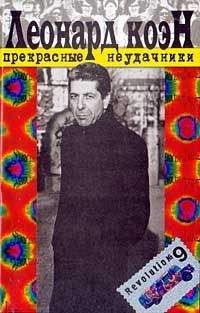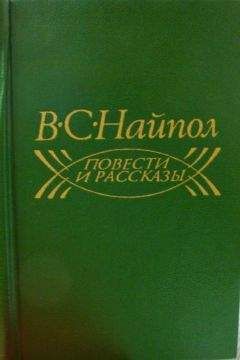Фзнуш Нягу - Властелин дождя
А вот мне на долю выпало не от любви, а от тоски петь. Любовь — плодоносящий дождь, но не все сады озеленяет. Сперва и меня она утехами одарила, но скоро минула, а ведь я нашел, отведал сердце земли.
Недаром в песне поется:
Набегает
половодье,
набегает
и уходит…
Так и с моей любовью приключилось. Нагрянула она поздно, промелькнула быстро. Поздно, говорю, за сорок мне было. Осень стояла, как сейчас. Подрядились мы с Лылэ колодец рыть в двадцати километрах от Колковану… Я спал в шалаше рядом с виноградником. Как-то вечером забрался я туда винограду нарвать. Лылэ-цыгана со мной не было — он растянулся возле шалаша прямо на траве, надвинул шляпу на глаза и заснул как убитый. Сорвал я и для него четыре грозди, сунул за пазуху и вышел на тропку. Вижу — с кукурузного поля метнулась ко мне Яна. Верхом на коне. Прямая, застыла в деревянном седле с веревочными стременами. Губы у нее полиловели, а ресницы дрожат от ярости. На виске, над родинкой величиной с горошину, бьется жилка. Запутавшаяся в платке травинка шевелится, ласкает обожженную солнцем шею. Мне приглянулись сразу ее большие, обведенные темным глаза, и я невольно шагнул вперед, чтобы поближе разглядеть их.
— Стой! — крикнула она. Лошадь рванулась на ее голос и стала бить копытами землю — рыжая тощая кобыла с узким крупом.
— Пугливая она у тебя, — сказал я, — хлещешь ее, видать, между ушей. Потому и боится.
Яна не вымолвила ни слова, откинулась назад, взмахнула плетью и стегнула меня, будто огнем полоснула. Припрятанный за пазухой виноград очернил рубаху.
— Мало украл, — обронила она. — Но я и за это могла бы избить тебя до полусмерти. Кнутом или топорищем. Да не буду я тебя бить, Скарлет Кахул. Люди говорят — отыскал ты сердце земли, а кто его отведал, боли не боится. Нет, бить не стану, а возьму с собой. Тропинку видишь? Ступай по ней вперед.
Привела меня Яна домой. Жила она в низком бревенчатом домишке, притулившемся в ложбине, среди зарослей шиповника и кустов георгинов. Во дворе была коновязь, клетка, где подремывал заяц, и два старых мелких колодца с обвалившимися краями.
— Ты их вырыл, — сказала Яна.
Вода, наполнявшая колодцы доверху, отливала голубизной. Вокруг были разбросаны для просушки примятые копешки полыни. И в горнице горько пахло полынью. Когда я переступил порог, Яна несильно стегнула меня надломленной полынной веткой по лицу. Я засмеялся.
— И ты меня ударь, — велела она. — Э, да ты постарел, видать, Скарлет Кахул, забыл, что парни цветками полыни метят любимых. Хлестнешь меня полынью — стану твоей любимой.
Я торопливо схватил висевший над притолокой пук полыни — по весне у нас полынные листики в бочки с вином подбавляют — и стегнул ее по плечу. Сухие листочки осыпались, окутав ее пылью.
Дурак! — крикнула Яна. — Девок зеленой полынью стегают.
Она кинула мне в лицо зеленый стебель, что вертела в руках, выскочила, захлопнула дверь и замкнула меня. Я бы мог навалиться плечом, да и высадить дверь, но я подошел к окну.
Яна купалась в мелком полуобвалившемся колодце. Видна была только голова да плавающие на воде распущенные волосы. Ржавое солнце клонилось к западу, а вода, в которой плескалась Яна, голубела, искрилась. Верно, виновата во всем была полынь. Яна хлестала себя пучками полыни, мяла их ногами, а ключевая вода играла колдовскими красками, что запали мне в душу на всю жизнь. Один я видел их те три дня, что прожил у Яны.
Поутру Яна просыпалась первой и, уходя в поле, крест- накрест прибивала доски на дверь и на окна — боялась потерять меня. И заваливала дверь горой тыкв. Я забыл и про недорытый колодец, и про Лылэ-цыгана, про все на свете забыл. Жил ради одной Яны. Покуда ее не было со мной, я садился возле клетки с зайцем и рассказывал ему про свою любовь к Яне.
— Обернись заколдованным кротом, Яну охраняй, — велел я ему. — Одного меня слушайся. Приведи барсуков из нор, на чужаков натрави, если вздумают они подстеречь мою Яну. Пускай волчицы с приплодом на развилке дорог сгрудятся и разорвут в клочья всякого, кто поглядит на нее, когда она купается в колодце. Я отведал сердце земли, и ты, заяц, и все звери должны мне повиноваться.
Как-то раз пришел Лылэ-цыган, вокруг Яниного дома бродил, меня звал.
— Прогони его, крот, — велел я зайцу, спрятавшись за стеной.
Лылэ ругнулся и ушел. Я стоял в темноте, ждал Яну. Она явилась в час, когда просыпаются ворожеи. Лошадь выступила из мглы. Заяц встретил ее плачем. Яна сбросила платье и окунулась в колодец. Вода выплеснулась из замшелого сруба и стихла, улеглась. Кобыла испуганно заржала, подняв морду к луне. Во дворе, под дверью, с гулким стуком рассыпались тыквы и покатились вниз. Дверь соскочила с петель. Оконное стекло разбилось вдребезги. Заяц в клетке заплакал, смерть почуял…
В степных колодцах моих сердце земли да песни Яны плавают. Идут к ним люди, водицу черпают, прохладную, живую, не ведая, что мертвые жилы воды одному Скарлету Кахулу подвластны.
Гляди, гляди, доктор, пал предвечерний туман. Замер ветер, не звенит ледяной своей кольчугой. По такой поре у нас в Колковану коней на водопой гонят. Степных скакунов-красавцев. Слышишь, как они взыгрывают у деревянной колоды? Бьют копытами, теснятся, всхрапывают. Молодые породистые кобылы пьют жадно, жеребята — с ленцой. Скачут, укусить норовят. Парни кричат, улюлюкают, ругаются, унимая их. Во дворе, где свадьбу играют, легко лошадей красть, а от колодцев Скарлета Кахула — горячих скакунов уводить, шутят они.
Как страшно скрипят колодезные журавли! Кло-кло- кло! — клонятся над выгоном. Оборвалась цепь, и ведра попадали в колодец, стукаясь о каменные стенки.
Гей, гей, Лылэ-дружище, слышишь, как ведра падают в колодец? Пойдешь вытаскивать их железным багром. Глянь, солнце обернулось тыквой, и ты ногой катишь его в долину, Лылэ… Странниками прошли мы с тобой по миру!
Гей, гей, вода живая, вода мертвая, так и остались мы не ведомы никому…
1962
Шальное лето
— Совсем ошалела, о господи! — вздохнула бабка Аника.
— Раньше ты по-другому говорила, — сказал Джордже, отставив миску с токаной, — вот как: лето шальное, нету покоя, петух крыльями взмахнул да на луну вспорхнул!
— Хворый ты был, все горло в язвах, вот и утешала как могла, а нынче я про жарищу… парит — ад сущий, гроза будет.
Тощей, рябой бабке Анике девятый десяток, она вся исхудала, ссохлась, как скелет, в чем только душа держится.
— Смотри не обмани, — предупредил Джордже.
И тут же перед его глазами расстелилась, убегая куда- то, степь, растаяла в мураве дорога, исчезла, поглощенная черной ночью, узенькая полоска голубого неба и хлынул проливной дождь.
Он шел где-то далеко-далеко в горах, такой зловещий, такой ужасающий, словно наступил конец какому-то неведомому миру; бешено ревел ветер, грозно рокотали потоки воды, и угнетенная душа человеческая не знала, куда ей деться от страха.
— Дождь потому в горах, чтобы камни большими росли, а нас стороной обойдет, — прошамкала бабка Аника.
Молнии торкались в занавешенное окошко и, вспыхнув, тут же гасли, низвергаемые громом в черную, бездонную пропасть.
— Опять мне полынь под подушку сунула? — чуть не плача, сказал мальчик. — Просил же, голова от нее болит.
— Зато блохи кусать не будут, — утешила бабка, поправляя на иконе веночек из ячменных колосьев.
Ночной чепец с оборкой свалился у нее с головы и упал на конопляную подстилку возле кровати. Бабка нагнулась, чтобы поднять, да вдруг захватило у нее дух, и она легла, а вернее, упала на кровать, рядом с Джордже. Ее седые редкие волосы скользнули по плечу мальчика, и он брезгливо отодвинулся к стене. «Противна старость, — подумала старуха, — никто уже эти ведьмины космы не погладит, окромя смерти».
Отдышавшись, она ласково сказала внуку:
— Отъелся ты больно. Зубы здоровые, вот и грызешь, как пес жадный, целый день. Смотри, разжирел — словно кукушка с Петрова дня.
Кукушка с Петрова дня жиреет оттого, что куковать перестает. Мама говорит…
— Не поминай ее, шлюху…
— Зачем мальчонку против Аурелии настропаляешь? — послышался из сеней голос Михая Дрока. — Не твоя ли дочь?! Ты же ее такой вырастила. Ни разу я от нее ласкового слова не дождался, в постель ко мне ложилась как изморозью покрытая. Окрутили вы меня, сводни чертовы! Все вы!..
— Ты бы при малом-то постеснялся, — упрекнула зятя старуха.
Бледная вспышка осветила небо, и тут же вслед загромыхало ржавое железо.
— Он и не слушает, малый-то, — ответил с порога Ми- хай Дрок, — А ну-ка, Джордже, скажи, что слышал?
— Ничего не слышал. Бабка шепелявая, не разобрать, что говорит.
— Доживи ты до восьмидесяти! Все живут, сколько бог заповедал, каждому свой час.